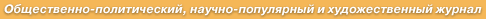ПОСТИЖЕНИЕ МУДРОСТИ ВЕКОВ Хусаинов Гайса Батыргареевич родился 10 апреля 1928 года в деревне Утяганово Кармаскалинского района БАССР.
Башкирский литературовед, прозаик. Доктор филологических наук (1970), профессор, академик АН РБ.
Заслуженный деятель науки РФ, БАССР.
Окончил Башкирский государственный пединститут имени К.А.Тимирязева. С 1954 года работает в Институте истории, языка и литературы, с 1965 года — заведующий отделом литературы этого института.
Научные труды Г.Б.Хусаинова посвящены актуальным проблемам башкирской филологии. Первые статьи и рецензии были опубликованы в 1949 году. Автор монографий «Творчество Сайфи Кудаша» (1959), «Дауыт Юлтый» (1963), «Поэты» (1981), «Мустай Карим. Личность. Поэт. Драматург. Прозаик» (1994) и другие.
Составитель учебников и хрестоматий по башкирской литературе.
В жанре исторической прозы им написаны документально-исторические повести «Сказание об Алдар-батыре» (1981), «Фельдмаршал Пугачева» (1984), историко-биографические книги «Мухаметсалим Уметбаев» (1991), романы «Кровавый пятьдесят пятый» (1996), «Батырша» (2000), книга-эссе «Жизнь как жизнь» (1990), «Страницы истории» (2007).
Удостоен Государственной премии имени С.Юлаева (1980).
С 1996 по 2000 год был главным редактором общественно-политического, научно-популярного и художественного журнала «Ватандаш» и внес огромный вклад в его становление.
Коллектив редакции журнала поздравляет Гайсу Батыргареевича с 80-летним юбилеем! От души желаем ему дальнейших творческих успехов, здоровья, человеческого счастья!
Предо мной, на столе, много томов прекрасных книг. Это научные труды, художественные произведения, вышедшие в разном формате, разных обложках, в разные годы. Они просто поражают широтой охвата действительности, глубиной мысли, богатством художественно-изобразительных средств, ярким и разнообразным колоритом. И корни духовной эволюции нашего народа, восходящие к глубинам веков, и нити, связующие его с культурной средой Востока и Запада, и природа развития на национальной поч-ве, и современные высоты и стремление к будущему нашей культуры, словесности и гуманитарной науки – всё это встает перед глазами, волнует ум, вдохновляет и впечатляет при ознакомлении с этими книгами.
И само собой вспоминается деятельность таких уважаемых сынов Отчизны, как Михаил Ломоносов из русских, Каюм Насыри из татар, из казахов Ибрай Алтынсарин, башкиры Мухаметсалим Уметбаев и Заки Валиди. Так же, как и их, невозможно не назвать настоящим энциклопедистом и учёным-писателем своего времени, создателя этой удивительно разнообразной и объёмной научно-литературной сокровищницы, содержащей в себе воистину глубокую и великую мудрость, высокие морально-этические и эстетические идеалы. Этот обладатель недюжинного таланта, который один написал столько научных работ, литературных произведений, популярных книг, сотен статей, что равноценно трудам десятка учёных и писателей, несмотря на то, что он разменял уже восьмой десяток лет жизни, до сих пор продолжает идти на передней линии литературоведения, доводит до широкого слоя читателей ценную информацию о развитии нашей национальной культуры и литературы, а также свои новые наблюдения, открытия и идеи. И сегодня о нём можно без малейшего сомнения и со всей ответственностью сказать, что он основал свою научную школу в области изучения истории башкирского словесного искусства. С его лёгкой руки и под его прямым руководством в мир науки пришли около трех десятков человек, которые сегодня успешно работают в области изучения литературы и фольклора баш кирского и родственных народов. Среди них немало учёных, писателей, педагогов, которые своими прогрессивными идеями и интереснейшими наблюдениями определили уровень развития современного башкирского литературоведения и фольклористики, стали в этих областях передовыми специалистами. В качестве примера достаточно взять хотя бы председателя Союза писателей Башкортостана, народного поэта, видного учёного-литературоведа Равиля Бикбаева, учёного-педагога и писателя Мираса Идельбаева, учёного-фольклориста Розалию Султангарееву, заведующего Отделом башкирской литературы Института истории, языка и литературы Миннигали Надергулова. К слову сказать, и я быть в числе его учеников имел счастливую возможность, за это выражаю свою искреннюю благодарность моему глубокоуважаемому учителю, широко известному ученому-литературоведу и писателю – академику Гайсе Батыргареевичу Хусаинову. И я уверен, что такие же чувства благодарности он пробуждает в сердцах и других своих студентов и поклонников.
Гайса Батыргареевич Хусаинов родился 10 апреля 1928 года в селе Утяганово Кармаскалинского района, давшего нашему народу и республике многих героев труда и войны, видных писателей, учёных, артистов, государственных деятелей. Уже с самого детства он знал, хоть и понаслышке, о самом видном представителе просветительского движения в Башкортостане, о своём почтенном земляке, учёном-энциклопедисте, поэте, публицисте, переводчике и общественном деятеле Мухаметсалиме Уметбаеве, который в последней четверти XIX века воистину поднялся до уровня духовного наставника родного народа. В годы обучения в семилетней школе родной деревни, в Зилим-Карановской средней школе Гафурийского района и 9-й школе-интернат в городе Уфе Г.Б.Хусаинов вдохновлялся творчеством своего видного соплеменника, родившегося в селе Зилим-Каран, первого народного поэта Башкортостана М.Гафури. Быть может, именно в эти годы в душе юного джигита тихо и незаметно зародилась мечта подняться, как и его видный земляк, до высот всеми уважаемых и любимых сынов Отчизны. В годы обучения в Башкирском государственном педагогическом институте имени Тимирязева (нынешний БГУ) эта мечта нарастала, приобретала реальные очертания и побудила молодого специалиста поступить осенью 1951 года в аспирантуру Института мировой литературы АН СССР в Москве. И в 1954 году 26-летний молодой человек возвращается в родной Башкортостан кандидатом наук. С этого момента он связывает свой творческий путь с академическим учреждением, ведущим научно-исследовательские работы по изучению истории, языка и литературы, то есть с Институтом истории, языка и литературы, посвящает свой природный талант изучению башкирского искусства слова в историческом и теоретическом плане. И не случайно в одной из своих парс (миниатюр) Гайса Батыргареевич пишет: «По основному роду занятий я – человек науки, специалист по литературе. На мир смотрю больше как учёный». И действительно, развитие башкирской филологии, начиная с 50-х годов ХХ века и до наших дней тесно связано с его именем и научной деятельностью. Он внёс огромный вклад в развитие в общероссийском масштабе таких областей башкирского литературоведения, как история литературы и литературная критика. Человеком, заложившим научный фундамент в таких его областях, как биобиблиография, особенно текстология и археография, тоже был Гайса Батыргареевич. Учёный внёс немалый вклад и в область изучения фольклористики. Показал себя умелым организатором, широко эрудированным общественным деятелем. Начиная с 1965 года, около 35 лет, был заведующим сектором литературы Института истории, языка и литературы. В 1996 году руководство республики, Исполнительный комитет Всемирного курултая башкир и общественность доверили ему организацию выпуска журнала «Ватандаш», который должен был выходить на башкир¬ском, русском и английском языках, предложив пост главного редактора, и не ошиблись. Известный учёный-писатель, несмотря на свой преклонный возраст, трудился на этой должности засучив рукава, вложив в работу всю свою душу.
Гайса Батыргареевич прежде всего большой учёный, мыслитель. Его успехи в области журналистики – лишь ещё один факт, доказывающий то, каким разносторонне талантливым человеком он является.
Тяга Г.Б.Хусаинова к научному миру зарождается со студенческой скамьи. Согласно автобиографическим запискам под названием «Доля, выпавшая моей судьбе», вышедшим в 2001 году в нескольких номерах журнала «Агидель», среди университетских дисциплин наиболее близкими его «душевной стихии.., мыслям и внутреннему миру» были уроки по башкирской филологии, особенно по истории и теории литературы. Именно на этих уроках, различных внеурочных мероприятиях молодой человек «всей душой старается понять волшебную силу литературы и постичь глубокие её тайны», пробует свои силы в области литературной критики. И его старания увенчались успехом. Первые плоды своего творчества – рецензии на повесть молодого прозаика Фагима Лукмана «Бригадир», рассказ Хасана Мухтара «В лесу», поэмы для детей Акрама Вали «Спустя пять лет», Рашита Нигмати «Путешествие в будущее», Гайнана Амири «Вали» и другие критические статьи пытливый студент вначале печатает в принадлежащем литературному кружку пединститута рукописном журнале «Светлый путь». А в 1949—1950 годах его научные труды начинают один за другим появляться в ведущих республиканских газетах и журналах. Свою рецензию, написанную на повесть Акрама Вали «Джигиты нашей стороны», он в 1949 году через журнал «Литературный Башкортостан» (нынешний «Агидель») впервые предлагает научной общественности и широкому кругу читателей. Обозревая текущий литературный процесс, молодой критик не ограничивается только рецензиями на отдельные произведения, ведением научных поисков только в одном направлении. Уже в 50-х годах начинают выходить его проблемные статьи, посвященные вопросам теории и истории литературы, а также проблемам методологии и методики обучения и научного исследования литературы, зазвучавшие как новое слово в мире башкирского литературоведения и завоевавшие внимание научно-педагогической интеллигенции. Ведь достаточно одного взгляда на их названия, чтобы понять, насколько расширяются границы поисков молодого учёного. Таковы, например, статьи «Некоторые вопросы литературного мастерства», «О лирических жанрах поэзии», «Поэтическое мастерство М.Гафури», «Проблема жанров в башкирской литературе», «К вопросам башкирского стихосложения», «Поэмы в башкирской литературе», «Традиции Владимира Маяковского в башкирской поэзии», «Изучение творчества Даута Юлтыя в 9-м классе», «О псевдонимах», «Для принципиальной критики», «К новым творческим успехам в башкирской литературе», «Тему современности – в центр внимания», «Размышления о современной поэзии», «Писатель и жизнь» и другие.
Одну из своих статей, вышедших в 1956 году, Г.Б.Хусаинов назвал «Пусть будут шире проблемы исследования». Выступающий за единство слова и дела, сам же к этому стремящийся учёный тезис данной статьи превратил в принцип своего творчества, периодически выступая с новыми идеями и проблемами, прокладывая путь к новым начинаниям. Например, обобщающие годичные статьи, помогающие прогнозированию идейно-эстетической природы, достоинств и недостатков, особенностей и тенденций развития нашей литературы конкретного периода, разностороннее исследование в монографическом плане секретов творческой лаборатории видных писателей, способных своими произведениями определить состояние нашего словесного искусства в определённый период времени, он превращает в системное научное явление. В результате в скором времени выходят его сборники статей «Некоторые проблемы башкирской советской поэзии» (1957) и «Время и поэзия» (1964), которые могли дать широкому кругу читателей представление об идейной тематике, поэтическом строении, образной системе, жанрово-стилевых особенностях башкирской поэзии 50—60 годов, а также о литературных традициях и новаторстве. В первые годы своей научно-литературной деятельности Г. Б. Хусаинов раскрывается как талант¬ливый литературный критик. Гайса Хусаинов внёс большой вклад в развитие башкирской литературной критики как специальной отрасли научного творчества. Основу этому он заложил в 70-е годы ХХ века в своих литературно-критических книгах «Эпоха. Литература. Писатель», «В мире современной литературы», «Поэты». Рецензий на новоизданные книги Гайса Батыргареевич превратил в хорошую традицию и использовал разные жанровые формы литературной критики: обзор, рецензию, эссе, интервью, беседу, дискуссию, диалог. Со временем он начинает уделять больше внимания жанру литературного портрета. Его исследования в этом направлении перерастают в книги и монографии о наших видных поэтах и писателях. Так, уже в 60-х годах прошлого века один за другим выходят его монографии и критико-биографические очерки «Творчество Сайфи Кудаша» (1959), «Народный поэт Нигмати» (1960), «Даут Юлтый. Жизнь и творчество» (1963), «Народный поэт Мустай Карим» (1965). Все эти книги становятся основными научными источниками в изучении истории башкирской литературы для учителей вузов, ссузов и школ, студентов и аспирантов.
Г.Б.Хусаинов впервые в истории башкирского литературоведения даёт образцы реализации принципа целостного идейно-эстетического анализа, позволяющего разносторонне раскрыть секреты творческой лаборатории того или иного писателя; создаёт серию поистине глубоко содержательных, объемных монографий о видных писателях. Эти новаторские шаги далее были продолжены его коллегами по перу и учениками. В итоге появляются основательные научные книги о таких писателях, как М.Акмулла, М.Уметбаев, М.Гафури, Ш.Бабич, С.Мифтахов, Б.Бикбай, Г.Салям, Х.Давлетшина, С.Агиш, А.Бикчентаев, Н.Наджми и др.
Вышедшая в 1959 году объёмная монография Г.Б.Хусаинова «Творчество Сайфи Кудаша» рождает своеобразную сенсацию среди писателей, студентов и читателей, интересовавшихся нашей литературой. Ведь до этого в истории башкирской литературы ещё не было такой большой моногра фической книги, посвященной одному писателю и содержащей в себе глубокое, системное исследование его творчества. К тому же, это было время, когда среди общественности всё более сгущались дискуссии о творчестве и общественно-политической деятельности Сайфи Кудаша. Выход данной работы в свет был очень своевременным и уместным. Книга давала основательный ответ и объяснение на разнообразные и противоречивые взгляды на творчество и личность писателя с научной точки зрения, представляла собой образец последовательного изучения его жизни и творчества как единое целое. В ней были раскрыты причины и тщательно исследованы противоречивые периоды формирования Сайфи Кудаша как личности и писателя, сложные моменты его творчества. Самое важное то, что в данном труде в полной мере было освещено место Сайфи Кудаша в нашей литературе, его огромный вклад в нашу поэзию и документальную прозу. Широкое обсуждение данной работы в Башкирском государственном педагогическом институте сразу после ее выхода в свет с участием писателей, вузовских учителей и студентов было большим событием в развенчании самых различных по своей противоречивости взглядов, а также в утверждении важной роли творчества С.Кудаша в развитии башкирской литературы. Это исследование стало новым явлением в истории нашей литературы и литературоведческой науки.
Одним из важных трудов Г.Б.Хусаинова является монография «Д. Юлтый. Жизнь и творчество» (1963). В этой большой работе была продолжена традиция первой монографии, которая представляла собой тщательное исследование жизни и эволюции творчества писателя, основательный идейно-эстетический анализ его самых значительных и объёмных произведений в тесной связи с конкретными условиями. Эти две большие монографии Г.Б.Хусаинова, безусловно, были огромным достижением в башкир¬ском литературоведении. Они по своей жанровой особенности представляют собой образец изучения жизни и творчества писателя в историко-творческом единстве. Стилю данных работ присуща научная точность, выверенность и детализированность.
Кратко остановимся на ещё одной из работ Г.Б.Хусаинова — критико-биографическом очерке «Народный поэт Мустай Карим». С первых же его страниц пленяет душу то, как учёный искусно, доступно доводит до читателей свои проницательные мысли, идеи и научные наблюдения. Он успешно использует в книге народные легенды, предания, древние сказания, афоризмы и как определённое тайное «введение», «пролог» перед мыслями, которые ещё предстоит высказать, и в качестве их «развязки», «обобщения», и в форме своеобразного «эпилога». Вслед за этим он и сам порой предается философским и политическим размышлениям, и связывает научный анализ с образными рассуждениями, синтезирует их. В данном труде много суждений, размышлений, наблюдений и обобщений, обладающих концептуальной важностью.
Наблюдения в сферах «жизнь—эпоха—поэт—поэзия», «творчество и литературный процесс», обладающие общеметодологическим значением, составляют основной стержень труда учёного. Г.Б. Хусаинов тонко улавливает и основательно объясняет сложную сущность этих явлений, их развитие, изменение, связи между собой.
Забегая вперёд, отметим и следующее: учёный, постоянно следивший за литературным процессом, в 90-х годах вновь возвращается к работе о народ ном поэте, в результате чего в 1994 году выходит его объёмная монография «Мустай Карим. Личность. Поэт. Драматург. Прозаик». Из этой работы ещё ярче видно, каким мастером слова является автор и какими энциклопедическими знаниями, размахом образного эпического мышления и гармоничностью суждений он обладает. Учёный впервые в истории башкирского литературоведения сумел успешно и во всей полноте показать богатое разными литературными видами, жанрами, методами и принципами творчество очень талантливого человека как цельную идейно-эстетическую систему.
Следует отметить, что труды, стремящиеся раскрыть секреты творчества Мустая Карима, который стал одним из тех, кто определял лицо многонацио¬нальной советской литературы, были написаны и прежде. Однако в них доминировало рассматривание его в качестве либо только поэта (Хренков Д. Карим Мустай. М., 1963; Хакимов А. С веком наравне. Ташкент, 1972; Ломунова М. Мустай Карим. М., 1988), либо только драматурга (Кильмухаметов Т. Драматургия Мустая Карима. Уфа, 1979); либо мастера слова (Псянчин В. Мустай Карим – мастер слова. Уфа, 1972). Созрела необходимость в создании целостного фундаментального труда, систематизирующего разрозненные мысли, суждения, наблюдения, относящиеся к творчеству великого писателя. Учёный заметил это раньше других и, засучив рукава, принялся за работу, создал великолепный труд, способный стать в современном литературоведении прекрасным образцом комплексного изучения в монографическом плане творческого пути одного отдельно взятого писателя. И пути формирования и развития основных направлений в творчестве Мустая Карима, и влияние на писателя литературного процесса, и, с другой стороны, большое влияние, спустя годы и с накоплением опыта, самого Мустая Карима на литературный процесс, и закономерности внутреннего развития, эволюции данного творчества и такие его явления, как народность и интернационализм, традиционализм и новаторство, концептуальная целост¬ность и жанровое многообразие, дискуссионность и искренность, социальная острота и стилистическая искусность и художественность – всё это находит аргументированное освещение в этом труде через использование богатых примеров. В нем основные произведения великого писателя, составляющие «золотые страницы» башкирского и всероссийского словесного искусства, оригинально и цельно анализируются в монографическом плане. Говоря о монографическом изучении Гайсой Батыргареевичем отдельных произведений, творчества писателей, нельзя оставить без внимания следующий момент. Я имею в виду тот огромный вклад, который он внёс в раздел биобиблиографии – науки о литературе, дающий краткие системные и цельные научно-практические сведения о жизни и творчестве представителей словесного искусства. В 1967 году учёный в соавторстве со своим коллегой, литературоведом Мидхатом Фазлыевичем Гайнуллиным выпускает биобиблиографический справочник под заглавием «Башкирские советские писатели», повествующий о 101 башкирском писателе. Спустя 20 лет они вносят в эту книгу соответствующие времени поправки и дополнения, в результате чего в 1988 году выходит очень ценный справочник, вместивший в себя фундаментальные сведения о жизни и творчестве 213 членов Союза писателей Башкортостана. И в наши дни он остается настольной книгой литературоведов, преподавателей вузов и школ, аспирантов, всех интересующихся башкирской литературой.
В 50—60-е годы стараниями широко эрудированного, инициативного, ищущего, трудолюбивого учёного и таких его товарищей по перу, как Ахнаф Харисов, Мидхат Гайнуллин, Гилемдар Рамазанов, Ким Ахмедьянов, Анур Вахитов сформировалась концепция башкирского литературоведения, включая теорию и историю литературы, литературную критику, биобиблио¬графию. Именно в этот период вышли первые фундаментальные труды, связанные с историей и теорией башкирской литературы, с её биобиблиографией, сборники серьезных критических статей, показавшие активное и чуткое отношение наших литературоведов к литературному процессу.
Особое место среди них занимает монография Г.Б.Хусаинова под названием «Пути развития башкирской советской поэзии» (1968). В книге систематизируются и обобщаются собранные литературные факты, научные открытия, наблюдения учёного, которые велись в течение почти двух десятков лет, последовательно, на основе исторического принципа освещаются пути накопления идейно-эстетического опыта самого развитого рода башкирской литературы – поэзии советского периода в тесном единстве с историей общества, социально-экономическим, политическим и культурным веянием времени. Эта фундаментальная работа подтвердила расширение границ научных поисков, рост и развитие исследовательского мастерства самого учёного, продвижения на новые высоты всего башкирского литературоведения путём накопления большого опыта. Обилие и актуальность поднятых в нем историко-теоретических задач, освещение их в тесной взаимосвязи между собой как единой идейно-эстетической системы одного большого периода времени говорит о многом. Автор основательно исследует социально-историческую основу, идейно-эстетические истоки, противоречивую и сложную эволюцию, тенденции и перспективы развития башкирской поэзии эпохи формирования и развития нового, социалистического общественного строя. Он конкретно останавливается на вопросах, касающихся идейно-тематической и проблемной широты, жанрово-стилевой природы, национального облика нашей поэзии 20—60-х годов, её связях с литературой других народов, творческого заимствования и развития ею богатых многовековых литературных традиций Востока и Запада, новаторских черт её достижений и недостатков, места в системе других родов и жанров башкирского словесного искусства. Ученый рассматривает все эти вопросы в диалектическом единстве и достигает освещения их в полной объективности, в тесной связи с действительностью и историей развития общества. Наряду с изучением таких разнообразных и сложных проблем, в своём труде он также уделяет большое внимание вопросам творческого метода и поэтического мастерства, впервые в истории башкирского литературоведения наряду с вопросами индивидуального творческого стиля и места писателя в литературном процессе поднимает общую проблему современных литературных стилей. Интересны и поучительны наблюдения, конкретные обобщения и выводы ученого о личности поэта и особенностях формирования его идейно-эстетических взглядов.
Одним словом, монография Г.Б.Хусаинова «Пути развития башкирской советской поэзии» стала важным явлением, составляющим определённый этап в истории башкирского литературоведения, дающим мощный толчок в расширении границ научно-литературного мышления. Эта работа легла в основу его докторской диссертации, которую учёный успешно защитил в 1970 году в Алма-Ате.
Несмотря на свою огромную работу над различными областями литературоведения и многочисленные обращения к различным родам словесного искусства, Гайса Батыргареевич все же на первый план выдвинул поэзию, и, как пишет народный поэт Башкортостана, видный учёный-литературовед Равиль Бикбаев, Гайса Батыргареевич жил, поклоняясь поэзии, и она заняла центральное место в его трудах. Ещё одно яркое тому доказательство – его сборник литературных портретов под названием «Поэты», вышедший в 1981 году, и монография «Башкирская советская поэзия (1917—1980)», напечатанная в Москве в издательстве «Наука», центральном научном издательстве Советского Союза. В первой своей книге учёный знакомит широкий пласт читателей с творчеством таких поэтов, как Сайфи Кудаш, Мустай Карим, Мухутдин Тажи, Баязит Бикбай, Салях Кулибай, Ханиф Карим, Кадыр Даян, Гайнан Амири, Назар Наджми, Катиба Киньябулатова, Гилемдар Рамазанов, Хаким Гиляжев, Муса Гали, Шариф Биккул, Ангам Атнабаев, Шамиль Анак, Марат Каримов, Абдулхак Игебаев, Рафаэль Сафин, Рами Гарипов, Равиль Бикбаев. На основе тщательных, всесторонних наблюдений автор создает целостный творческий портрет этих писателей.
Что касается второго фундаментального труда ученого, то в нем он рассматривает башкирскую поэзию в ещё более широком временном пространстве и дополняет свои предыдущие историко-теоретические исследования наблюдениями и обобщениями, относящимися к нашей лирике 70-х годов прошлого столетия. Учёный стремится дать реальную оценку тому богатству башкирской поэзии, которое было накоплено ею в течение 60-и с лишним лет, исходя из уровня не только многонациональной советской, но и мировой литературы того времени; старается тщательно ознакомить всесоюзного читателя с национальными особенностями, типологическими чертами, а самое главное — художественными достижениями; и тем самым стремится дать читателям и, в какой-то степени, мировой общественности представление о нашей поэзии. Кстати, те же цели преследовала и изданная стараниями коллектива под руководством Гайсы Батыргареевича в 1977 году в Москве большая работа под названием «История башкирской советской литературы». Оба труда, явившиеся результатом серьёзных научных поисков, сыграли немаловажную роль в выходе на всесоюзную арену и башкирской литературы, и башкирского литературоведения, повышении их достоинства и значимости, помогли занять достойное место в мире словесного искусства и науки о нём, и, конечно же, в укреплении этнокультурных связей.
***
До 60-х годов в башкирской литературе превалировало преследующее пропагандистскую цель мнение, утверждающее, что, якобы, до Октябрь¬ской революции у башкир не было своей письменности, своего профессионального искусства, письменного литературного языка и литературы и что всё это появилось только после Великой Октябрьской революции, в период становления Советской власти. К тому же, в высших кругах такое воззрение возвысилось до ранга официальной позиции. Необходимо было положить конец противоречащему жизненной диалектике, крайне опасному взгляду, согласно которому в определённых политических целях намеренно отрицалась даже сама очевидность того факта, что у каждого народа, имеющего своё настоящее, есть также своё прошлое и будущее.
Такие учёные, писатели и общественные деятели, как Г.Б.Хусаинов, поднявшиеся до уровня рассмотрения духовной среды народа с высоты мировой цивилизации, науки и культуры, хорошо понимали необходимость разрушения этого пустого, не имеющего исторической основы стереотипа.
Г.Б.Хусаинов, будучи ещё аспирантом, начинает собирать сведения об историческом прошлом своего народа, усердно знакомится со взглядами и концепциями учёных, мыслителей разных национальностей. И в 60-е годы прошлого века он, наряду с фокусированием своего основного внимания на вопросах башкирской советской поэзии, продолжает углублять поиски в области исторической поэзии. В 70-х годах он начинает представлять на суд общественности свои статьи, эссе, парсы и научные сборники, показывающие и доказывающие, что у каждой литературы есть своё прошлое, настоящее и будущее, что насколько сложно понять настоящее литературы, не зная её прошлого, предугадать тенденции ее будущего развития, не учитывая в широком и основательном плане его настоящее. В них последовательно наблюдается ещё большее разветвление исследований учёного по периодам и жанрам и более сильная направленность его научных поисков в дебри истории. Так, если в сборнике статей «В мире современной литературы» (1973) Г.Б.Хусаинов основное внимание акцентировал на раскрытии состояния и задач литературной критики, изучении проблем развития башкирской прозы и выявлении её успехов и потерь, определении целей, стоящих перед писателями, то в книге «Дневник путешествий» (1976) он больше задумывается о духовной биографии родного народа, ее идейно-эстетических источниках, этнокультурных и литературных связях. В сущности, ищет глубокие корни и традиции нашей сегодняшней культуры и литературы. В своём объёмистом, глубоко содержательном сборнике «Эпоха. Литература. Писатель» (1978) учёный поднимает и освещает ещё более важные, концептуальные проблемы. Особый интерес вызывает то, как он рассматривает такие теоретические вопросы, как литературный метод, поэтика, строй стиха, традиция и новаторство. Автор рассуждает о путях развития и изменения нашей литературы в большом хроникальном, историческом и географическом пространстве, в сложных и противоречивых общественно-исторических условиях, на фоне многосторонних экономических и культурных связей. Г.Б.Хусаинов впервые в истории научного изучения башкирской литературы основательно освещает проблему периодизации нашего словесного искусства, при помощи богатых фактических материалов подробно раскрывает характерные черты, тенденции развития каждого литературного периода, одним словом, составляет научно обоснованный план-проспект истории башкирской словесности. В процессе этого учёный убедительно показывает, что шежере, тауарихы, эпистолярные записки, деловые бумаги являются не только историко-документальными, но и литературно-публицистическими источниками, что в древних и средних веках в башкирском обществе наряду с письменной литературой и фольклором значительный расцвет получила также и изуст¬ная литература. Поэтому книга «Эпоха. Литература. Писатель» вызвала огромный резонанс в обществе и завоевала широкую популярность. Её автор удостоился высокой награды нашей республики – Государственной премии имени Салавата Юлаева.
Хочется обратить внимание на одну важную мысль Гайсы Батыргареевича: «Обычно говорят, что научная работа — это путешествие в мир книг. За свой длинный жизненный путь я странствовал в самых невероятных материках книжной планеты; выискал, пролистал, понял, изучил бесчисленное количество книг. Именно на этих дорогах пролетели семь десятков лет моей сознательной жизни, там же ослабели глаза.
Вот так, продолжая очаровывать и считая меня своим другом, книга уговорами и упрашиваниями понукала совершить большое паломничество в её мир: книгу ты сумей найти, ищи древние книги, написанные пером, быть может, именно они приведут тебя к большим находкам.
Это было велением необходимости».
Таким образом, с начала 70-х годов прошлого века начинается серьезное, целенаправленное «путешествие» учёного Г.Б.Хусаинова в духовный мир прошлого. Продолжая искать рукописные книги наших предков, он организовывает археографические экспедиции по районам Башкортостана и сам же их возглавляет. Ведь такие научные экспедиции были очень нужны для сбора, сохранения и изучения теряющихся, стареющих со временем рукописных и старопечатных книг. По инициативе Гайсы Хусаинова вскоре начались летние археографические экспедиции. И мне, как одному из его аспирантов, также довелось участвовать в этих научных поисках. На данных археографических экспедициях в более чем 400 башкирских деревнях и селах, было собрано около трех тысяч древних рукописных и четырех тысяч старопечатных книг, шежере, историй деревень, образцов фольклора и множество других очень важных материалов. В Уфе при Институте истории, языка и литературы на основе этих ценных материалов образуется рукописный фонд. Теперь этот богатый фонд называется Центром рукописных и старопечатных книг имени академика Гайсы Хусаинова.
Таким образом, энтузиаст Гайса Хусаинов постепенно становится замечательным специалистом-археографом. Основательно изучая найденные рукописные книги, он показал себя и как талантливый учёный-текстолог. Составленные им научные отчеты археографической экспедиции уже сами по себе образуют многотомный важный источник. Г.Б.Хусаинов заложил основы археографической науки в республике и на ее базе организовал текстологическую работу. Эта очень сложная и скрупулезная работа была равноценна созданию основательного плацдарма для поиска и нахождения древних, глубоких корней истории башкирской литературы. Именно на этой основе, на базе найденных рукописных книг учёный развернул исследовательские работы по освещению истории башкирской литературы XIII—XVIII веков. Под его руководством специалисты Института истории, языка и литературы и из вузов в период с 1975 по 1990 год проделывают титаниче¬скую работу в написании шеститомной истории нашей литературы: по сложным и спорным вопросам проводятся дискуссии за «круглым столом», научные конференции; тщательно изучаются и текстологически обрабатываются собранные древние рукописные источники, их отдельные образцы публикуются на страницах периодической печати и сборниках, составляется план-проспект будущей фундаментальной многотомной работы, публикуются сборники научных статей. Эти сборники отличаются тем, что в них поднимаются вопросы, которые до этого либо совсем не освещались, либо были мало изучены. Уже сами их названия говорят за себя: «Вопросы текстологии башкирской литературы» (1979), «Система жанров в башкирской литературе» (1980), «Проблемы метода и стиля в башкирской литературе» (1982).
Г.Б.Хусаинову, как научному руководителю данной темы, наряду с решением практических, организационных вопросов приходится также быть «идео¬логом» в определении структуры многотомника, обосновании его концепции, раскрытии проблем. Им же написаны самые сложные и ответственные разделы, посвящённые древним и средним векам нашего словесного искусства. Результатом его многолетних, беспрерывных поисков явился выход в свет в 1984 году книги «Голос веков», написанной в историко-теоретическом плане. Данный труд я без малейшего сомнения назвал бы главной книгой видного учёного — его самой ценной творческой находкой за весь долгий путь научных исследований и поисков. Не только в жизни одного человека, а быть может, даже в научно-культурной жизни целого народа подобных книг не бывает много. Книга «Голос веков» стала особым явлением в истории башкирского литературоведения ХХ века. В сущности, этот труд составил основу в изучении в научном плане духовных богатств нашего народа в средние века, которые ранее оставались не изученными и представляли собой, образно говоря, «нетронутую целину». Работа посвящена вопросам двух основных разделов науки о литературе – истории и теории литературы. Она отличается своеобразием и основательностью поднятых в ней проблем, высказанных идей, предложенных концепций. В разделе книги, посвященном истории словесного искусства, приковывает внимание то, что, ведя речь об истоках и особенностях развития башкирской литературы в средние века, Г.Б.Хусаинов проводит идею, согласно которой культура и литература, возникшая в XI—XVIII веках, в особенности во времена существования Булгарского государства и Золотой Орды, распада последней на маленькие ханства, – представляла собой не какое-то узкое этнокультурное явление, а целую систему общего духовного богатства, созданного усилиями различных тюркоязычных народов, живущих в составе этих государств. Ведь несмотря на то, что в средние века стремление тюркских племен объединиться в один большой народ, ввиду самых разных причин (например, из-за частого изменения границ их государств и системы политического строя), не увенчалось успехом, самые различные этнические группы создавали своё духовное богатство на одном достаточно консервативном, длительно сохранявшем свои нормы и традиции, письменном литературном языке, то есть на древнетюркском литературном языке. И поэтому попытка «вогнать» плоды словесного творчества этой эпохи в какую-либо этническую «клетку» и «запереть» их там как духовное богатство только одного этноса не соответствовала бы исторической действительности и очень мешала бы объективному освещению сложной картины литературного процесса. Академик Г.Б.Хусаинов хорошо это понимает. На основе богатых фактических материалов, научных источников он достоверно показывает, что возникшее в период формирования и расцвета Булгарского государства словесное искусство нашло своё распространение на сравнительно малой территории и было идейно-эстетической системой регионального характера и для народов, проживающих на территории этого государства – современных чувашей, башкир, татар, и оно является общим духовным достоянием, созданным их предками. А уже во времена Золотой Орды эта литературная система была общей для всех тюркских народов, живших в составе большого государства, она преобразовалась в широко распространённую на больших территориях систему – систему зонального характера.
К сожалению, такие важные моменты не были учтены даже в самых поздних трудах, освещающих историю литератур родственных тюркских народов. Например, в трёхтомнике «Узбекская литература» авторы памятников «Дивану лугат-ат-турк», «Кутадгу билик» Махмут Кашгари и Юсуф Баласагуни, а также Котб и Сайф Сараи рассматриваются как узбекские писатели, а в книге «Поэты туркменской литературы XI—XVIII веков» Кул Гали и тот же Котб безосновательно указаны как писатели турк-менские. Использование только национально-территориального принципа относительно к старинному (древне – и средневековому) тюркоязычному достоянию народа, исследование его, при удобном случае исходя только из отдельных фактов, общественно-политических, историко-географических рамок, сформированных в поздний период – всё это имеет место и в некоторых трудах, посвящённых изучению прошлого родственной нам татарской литературы. И если данная тема имела место в написанных в 20—60-е годы прошлого века книгах Г.Газиза, Г.Рахима, Г.Сагди, М.Гайнуллина, а также в труде «Древняя татарская литература» и других работах, и учитывая, что это были только первые опыты масштабного, системного изучения духовного наследия татарского народа, это событие не вызвало бы особого удивления, но сегодня, когда наука о литературе уже накопила огромный опыт в изучении в историческом плане словесного искусства народов бывшего СССР, добилась значительных успехов в разработке его теоретических положений и основ, исторического принципа в изучении духовного наследия, никак нельзя согласиться и признать исторически правильным то, что нацио¬нально-территориальный принцип до сих пор главенствует в некоторых работах (М.Усманов. «Следуя за гусиным пером»; Ф.Хисамова. «Языковые особенности татарских деловых записок XVIII века»; «История татарской литературы. Средневековый период»).
Всё это совершенно чуждо для книги Г.Б. Хусаинова «Голос веков». Автор хорошо понимает, что фундамент мысли должен складываться из как можно более полного собрания фактов, относящихся к изучаемому вопросу, из богатых, не подвергающихся сомнению сведений. В своём труде он не ограничивается одним только фиксированием и анализом памятников письменной литературы, а обращается и к зарубежным, и к местным историко-этнографическим, историко-литературным источникам, и к фольклорным материалам, и к данным таких разделов науки, как история, этнография, археология, лингвистика. Именно путём разностороннего анализа, сравнения и синтеза таких разнообразных, богатых материалов учёный достигает научно обоснованного, достоверного, системного освещения средневековых зачатков нашей литературы, панорамы её развития и изменения, идейно-эстетического содержания, жанрово-стилевой природы.
Учёный, выбравший своим самым главным принципом объективную оценку каждого культурно-литературного явления, в данной работе ещё более развивает и углубляет идеи, уже поднятые в его предыдущей книге «Эпоха. Литература. Писатель». К примеру, он, используя богатый фактический материал, показывает, что изустная литература была одной из ос новных своеобразных форм нашего средневекового словесного искусства и в тесной связи с фольклором и письменной литературой образовала цельную литературно-эстетическую систему. Останавливаясь на творчестве таких йырау и сэсэнов, как Хабрау, Асан Кайгы, Казтуган, Шалгыз, Кубагуш, Акмурза, Карас, Ерэнсэ и Баик, Г.Б.Хусаинов доказывает, что они были такими мастерами слова, которые в своих произведениях могли органично соединять фольклорные и литературные традиции, и оставили глубокий след в истории башкирской словесности. Кроме того, учёный в присущем только ему одному оригинальном стиле анализирует огромное количество образцов письменной литературы и фольклора, историко-литературных, историко-документальных источников, уделяет особое внимание раскрытию свойств последних по отношению к литературе. Оценивая духовные памятники, он проявляет особый такт и чуткость, в результате этого в данном труде во всей полноте предстаёт перед глазами читателя идейно-тематическая жанрово-стилевая природа и образная система, творческие методы, формы существования, особенности развития средневековой башкирской литературы, которая и по форме, и по содержанию была неоднозначной и сложной. Также достойно большой похвалы и то, что учёный ещё более конкретно и ясно определил, качественно объяснил принципы изучения духовного наследия и критерии деления истории литературы на периоды, ещё более основательно раскрыл на базе обширного фактического материала главные особенности, тенденции развития и изменения, присущие каждому периоду словесного искусства. Также достойны большого внимания его наблюдения и исследования, связанные с проблемами тюркского письменного литературного языка Урало-Поволжья и древнего башкирского литературного языка.
Важно ещё раз отметить такие моменты в книге, которые так приковывают внимание. Автор, наряду с выделением явлений общности в средневековой литературе на старотюркском языке, также подробно останавливается и на вопросах: определения вклада каждого этноса в возникновение общего духовного богатства и раскрытия основанных на конкретной историко-национальной почве его своеобразных черт, процесса дифференциации и в определённых общественно-исторических условиях формировании отдельных литератур (XIV—XV вв.), укрепления со временем в них национального колорита (XVI—XVIII вв.), развития культурно-литературных связей. В этом отношении очень ценны наблюдения Г.Б.Хусаинова по изучению башкирских литературных связей XIII—XVIII веков. Учёный, говоря его словами, находит «в чаще тёмного леса» великое множество «восхитительных деревьев», знакомит читателя с изумительно богатыми фактическими материалами, увлекательно пишет о генетических, типологических аспектах литературных связей, о явлениях литературного синтеза, трансплантации, контаминации многоязыкового творчества, о специфике переводческой деятельности и переводной литературе, делает важные выводы. Внимательность учёного даже к незначительным фактам, его наблюдательность, неиссякаемая «сокровищница» памяти достойны восхищения. Впрочем, наверное, нельзя стать превосходным специалистом, энциклопедистом своего дела, не обладая такими качествами.
Важно и следующее: делая обзор башкирских литературных связей средних веков, Гайса Батыргареевич не ограничивается только раскрытием внеш ней, формальной стороны этого процесса, учётом отдельных фактов, а старается вникнуть в его внутреннюю природу, сущностные закономерности. В целях осуществления задуманного, он опирается на мысль, что для влияния той или иной литературы на какую-либо другую литературу необходимым условием является наличие у второй определённой художественно-эстетической основы, собственных традиций, способных принять и развить достижения иностранных словесных искусств. Ученый также убедительно показывает, что ни одна литература не является только «заемщиком», берущим в долг богатства других литератур, но, в свою очередь, и сама участвует в хотя бы даже очень малом расширении их идейно-эстетических горизонтов. В целом, в своём труде учёный рассматривает литературные связи не как односторонний процесс, направленный только на «присвоение» или «обеспечение», а как сложный литературно-творческий процесс, уже изначально основанный на взаимовлиянии и взаимообмене.
Появление в свет в 1996 году на русском языке сокращенного, но более конкретизированного, уточненного варианта этого фундаментального труда «Башкирская литература XI—XVIII веков», оставившего неизгладимый след в истории башкирского литературоведения, также явилось радостным событием в культурно-литературной жизни нашей республики. И очень скоро книга начала выполнять функцию учебного пособия для студентов вузов, колледжей, училищ, учеников гимназий, лицеев и школ.
***
Хотя Г.Б.Хусаинов в своей парсе «Собеседник» скромно пишет: «В мире науки… достаточно много учёных, совмещающих научные и писательские способности… Я таких больших целей перед собой не ставил. Довольствуюсь тем, что есть», – в мире сегодняшнего башкироведения, в сущности, сам же он получил известность как видный учёный и писатель, умеющий чрезвычайно искусно и тонко сочетать дар логического мышления с «секретами пера», художественного мышления. В последние годы он внёс весомый вклад в «оживление» серии «Жизнь знаменитых людей». Один за другим вышли его историко-биографические книги под названиями «Мухаметсалим Уметбаев» (1991), «Ризаитдин бин Фахретдин» (1997), «Ахметзаки Валиди Туган» (2000), «Батырша» (2005). В книге «Сыны Отчизны» (1998), наряду с историко-документальными повестями, автор дал литературные портреты более 20 почётнейших сынов Отчизны, оставивших свой след в истории башкирского народа. Кстати, уже в 80-е годы прошлого века он активно приступает к научно-литературной деятельности – к написанию литературных портретов и воспоминаний. В результате в 1988 году выходит в свет его сборник литературных портретов, воспоминаний, парс и статей под названием «Времена». В нём нашли место воспоминания и литературные портреты, посвящённые более чем 10 видным башкирским деятелям литературы и искусства, творчество которых пришлось на годы советской власти. Совмещая в своем труде способности учёного и писателя, уместно используя повествование, описание, диалог, монолог и другие художественно-изобразительные средства, а также прием гипотезы, Г.Б.Хусаинов ознакомил в научно-популярном стиле, доступной форме широкий круг читателей с жизнью, творчеством и общественной деятельностью наших видных личностей. Тем самым он, наряду с написанными ранее критико-биографи ческими очерками, проложил дорогу в нашей литературе жанру биографической литературной книги. Результатами творчества в данных жанрах Гайса Батыргареевич ещё ярче показывает, что учёный, исследующий духовный мир, культуру, и, конечно же, литературу народа, должен быть таким же мастером слова, как и писатель.
И даже традиционно называя свои книги «Мухаметсалим Уметбаев», «Ризаитдин бин Фахретдин», «Ахметзаки Валиди Туган», «Батырша» как историко-биографические, Г.Б.Хусаинов отмечает, что они по своей документальной основе, художественному стилю близки к серии биографиче¬ских романов. Учёный прямо указывает, что его книги написаны немного в духе биографических романов таких классиков западной литературы, как Стефан Цвейг, Андре Моруа, Ромен Роллан, что по стилю, объединившему качества документальности и художественности, они во многом подчиняются канонам романа. Потому-то эти биографические книги читаются так же легко и увлекательно, как художественные. В них в литературно-описательном стиле отображается научная и литературная деятельность историче¬ских личностей и вместе с их творческим миром также находят яркое отражение их биографии и образы.
Вообще, в творческой деятельности Г.Б.Хусаинова наблюдается такая закономерность: от малого к великому, к своим намеченным большим целям он приходит последовательно, шаг за шагом, тщательно изучая факты и явления культуры и литературы дооктябрьского, советского и современного периодов, делая всё новые и новые наблюдения и обобщения, из отдельных статей, творческих портретов, эссе потихоньку образуя серьезные, фундаментальные монографии, содержательные научные сборники, историко-литературные книги, создавая художественные произведения. К примеру, большие научно-популярные статьи ученого «Последний тарпан», «Слово о Карахакале», «Семь родов», «Письмо Батырши к императрице» лежат в основе его художественных произведений исторического характера. В 80-е годы прошлого века учёный-писатель осваивает историко-биографические и историко-документальные разновидности жанра повести, одну за другой пишет свои киссы «Кисса об Алдар-батыре», «Фельдмаршал Пугачёва» «Рудокоп Исмаил Тасимов» («Кисса о героях». Историческая проза. Уфа, 1986). В них он продолжает традиции жанров восточной литературы в соответствии с требованиями своего времени, старается сохранить утвержденные еще в средних веках черты собирательного жанра киссы (повести), который включает в себя понятия «рассказ», «повесть», «история», «событие». С этой точки зрения, «Кисса о героях» – это не сборник отдельных повестей и рассказов, а эпическое произведение, компоненты которого соединены единым стилем и пафосом, и самое главное, одной общей темой. Сюжетам данной киссы присущи документальность и освещение биографии героев. Их объединяет тема борьбы башкирского народа против национально-колониального гнёта. Эта тема образует основной стержень киссы о героях. Благодаря данной теме, сплочённые в одну «ящичную» композицию произведения историко-документального характера – повести и рассказы имеют большое социально-политическое значение. Потому что в них учёный-писатель ознакомил широкую общественность с нашими почтеннейшими сынами Отчизны (Алдар Исянгильдин, Карахакал, Батырша, Бадергул Юнаев, Исмаил Тасимов), оставившими глу бокий след в истории нашего народа, но из-за идеологии, провозглашенной советским государством, подвергшимися забвению и известными только узкому научно-литературному кругу, описал их и благостные, и славные, и трагические пути жизни и деятельности, тем самым способствовал раскрытию «занавесей» истории, воспитанию у народа исторического и национального самосознания, патриотических чувств.
Это же можно сказать и о романе учёного-писателя «Кровавый 55-й» (1996), берущем свое начало из его статьи, текстологической работы и рассказа об идеологе башкирского восстания 1755 года Габдулле Галиеве (Батырше). Писатель акцентирует внимание на повествовании о происшествиях, «превративших батыра в изгоя», останавливается на раскрытии причин этого трагического явления, описывает моменты, когда Батырша, попавший в Шлиссельбургскую тюрьму, решается на смелый шаг – пишет письмо императрице Елизавете Петровне, и, стремясь сбежать из тюрьмы, встречает свою гибель, храбро сражаясь с стражниками. В романе же он ставит в центр повествования жизнь и судьбу народа, весьма уместно и искусно используя историко-документальные материалы, ярко освещает ужасающие последствия национально-колониальной политики, проводимой в Башкортостане царским самодержавием; образно «аргументирует» и даёт понять читателю, что наши благородные личности, которые вели смелую борьбу с несправедливостью и злодействами, жили судьбой своего народа, со всеми его радостями и печалями, и не щадили для его счастья своих жизней – и сегодня должны своими светлыми образами быть среди нас, пробуждать нашу память, светить, как путеводная звёзда на небосводе нашей духовной жизни.
И в романе «Кровавый 55-й» учёный-писатель сохраняет верность литературным традициям, возрождённым в его «Киссе о героях». Стремясь как можно более полно и исторически представить жизнь прошлого, чаяния народа, его духовный мир, желания и стремления, он широко использует жанрово-стилевые особенности, приёмы и средства, относящиеся к таким сильно развитым жанрам нашей средневековой литературы, как тауарих, мактуб (послание), саяхатнамэ (путевые записки), тарихнамэ. Они заметно усиливают документальную, фактическую основу романов и реальность отображаемых событий. Кстати, жанровую форму данного произведения автор сам же отмечает как историко-хроникальный роман и указывает на характерные особенности этого вида романа: «Историко-хроникальное произведение не оставляет места для вымысла, сухой мечты и пустой фантазии. Если их использовать, это будет нарушением норм жанра и искажением исторических фактов». Возвращаясь к «правилу жанра», можно сказать, что «хроника», которая в переводе с греческого звучит как «летопись», подразумевает как можно более точное и полное освещение фактов, сведений, деталей, явлений, случаев, событий в последовательном течении времени, то есть в каких-то поочерёдно текущих определённых периодах времени. Течение времени играет решающую роль в сюжетно-композиционном построении произведений хроникального характера. Нельзя забывать, что без фактических материалов, документов, исторических событий не может быть хроники –летописи того или иного времени. Ее основная черта – документальность.
Учёный и писатель, написавший столько монографий, критико-биографических очерков, литературных портретов, историко-биографических книг, кисс, теоретических статей, рецензий, эссе, историко-документальных рассказов, повестей и романов, в последние годы показал ещё одну сторону своего яркого многогранного таланта и словно ещё сильнее подтвердил этим, что является уникальным учёным-философом и учёным-педагогом. Я имею в виду и то, что он дал «второе дыхание» традициям «воспитательной литературы» и жанру хикмет; и то, что начал знакомить читателей со своими глубокомысленными парсами (миниатюрами) – плодами творчества, мудрого, вдохновенного, философского и этического содержания, считая, что «в науке ценно – новое, а в литературе – меткое, остроумное». Творческая деятельность учёного в данном направлении, начавшаяся с фиксирования мыслей-суждений, наблюдений в объёмной тетради, которая позднее систематизировалась и вышла в сборнике «Дневник путешествий» (1976). Цикл парс, вышедших в книге «Эпоха» (1988) и состоящий только из парс сборник «Жизнь» (1990) показали приход в нашу литературу творца, который словно дал гражданское право такому маленькому, но весомому и меткому жанру.
Напечатанная в 2000 году его книга «Мир» явилась ярким доказательством того, что жанр парсы наряду с другими жанрами начал обретать в нашем словесном искусстве своё заслуженное место. Сборник восхищает своей идейно-тематической широтой, меткостью мыслей и суждений, философской глубиной, языковой гибкостью. И просто невозможно не радоваться, не задумываться, не брать пример и не обогащать свой духовный мир, читая эти парсы. Ведь, что ни говори, мысли и наблюдения большого учёного, писателя и просто творческой личности – уже сами по себе своеобразная школа жизни. И если сегодня на арене нашей литературы начали появляться те, кто повернул свое «перо» в сторону этого мудрого и сильного жанра, то данное явление – одно из последствий его жизни и творческой школы.
Парсы Г.Б.Хусаинова очень богаты как своим содержанием, так и жанровыми формами. Как говорит сам учёный, у данного жанра миниатюры, как и у самой жизни, есть самые разные формы – это и притчи, и диспуты, и хикметы. Они основаны на размышлениях, отражающих такие разносторонние, сложные события и явления жизни, как человеческая жизнь и судьба, природа и современная цивилизация, жизнь, и смерть, мораль и культура, наука и литература, писатель и человек искусства, история и духовное наследие. Они доводятся до читательской души в основном методом синтеза логических и образных мыслей. И научные взгляды и мысли, и фактические сведения, и аргументы-гипотезы, и приёмы описания и повествования, и ассоциативные и лексические изобразительные средства, и стилистические фигуры и элементы поэтической фонетики, ритма, рифмы – всё это занимает большое место в парсах учёного-писателя. Рассмотрим, например, его парсы под общим названием «Истории, включенные в книгу «Жизнь»». В них заметна сильная опора автора на различные факты и документальные источники. Он уместно насыщает свои парсы гипотезами, философскими мыслями, элементами художественной литературы. Дополняя факты и документы этими мыслями, суждениями, гипотезами, а в нужных местах пословицами и поговорками, легендами и сказаниями, отрывками из песен и кубаиров, которые, на первый взгляд, не кажутся особо важными, он потихоньку преобразовывает в один удивительный образ-деталь, в очень значительное явление; и на почве всего этого, последовательно развивая свои мысли, предстоящие высказать, делает замысловатые выводы.
Вот, например, парса, названная «Надписи на камне». Она начинается с описания камня с надписью, который был найден в Чекмагушевском районе Башкортостана, на берегу реки Калмаш. Он пестрит арабскими письменами и руническими знаками. То, что на арабском, было нацарапано на нём в 1342 году. Из этого арабского текста становится ясно, что данный памятник является могильным камнем Кукляра – сына Буги. А вот написанные когда-то и находящиеся под этим текстом древние руны свою тайну не очень-то раскрывают. Похоже, что они, как и сотни тысяч подобных могильных камней, претендуют своим таинственным содержанием быть не только обычным камнем, а воистину ценным памятником древней башкирской каменной письменности. Данная ситуация приводит нити авторских мыслей в сторону Алтая, Казахстана и Северного Кавказа, на берега Орхона и Енисея, Байкала, Иссык-куля, Дона, Волги, то есть в те края, где находятся такие же таинственные камни с надписями, которые, по мнению учёного, по всей вероятности, были родственны древнебашкирским надписям на камне. В одно время, когда на берегах Орхона и Енисея были найдены камни с руническими текстами, над этим ломало голову множество учёных, выдвигались самые разные гипотезы, но таинственные тексты не очень-то поддавались расшифровке. Наконец, в конце XIX века учёные из Дании Томсон и из России – Радлов нашли «ключ», способный дать им отгадку, и камни, хранящие свой секрет веками, вдруг заговорили.
Таким образом, учёный-писатель, начиная свою речь о камне высотой в один, шириной только в полметра, содержащем древние надписи, в конце своей парсы приводит читателя к такой мысли, что всё, что существовало на земле и не исчезло, всё равно когда-нибудь раскроет свой секрет, послужит человечеству; и то, что мы не знаем и не можем понять сегодня, откроют люди будущего, воплотят в жизнь, сделают открытия; ведь развитие жизни образуется именно в процессе распутывания клубка её тайн. Кажущийся на первый взгляд совсем простеньким могильный камень автор преобразует в глубоко осмысленный символический образ-деталь. При этом ученый пробуждает у читателя интерес к важной детали нашей древнейшей культуры — руническому письму, призывает охранять эти объекты и организовать их системное изучение.
В целом, десятки парс Г.Б.Хусаинова, посвящённые историческим, духовным и другим проблемам («Идол», «Достойные быть памятниками», «Гробница», «Клич племени» и другие) построены таким образом, что от отдельного факта, сведения, явления, даже одного слова-понятия доходят до широкого обобщения рождённых в их внутреннем мире смыслов, мыслей-суждений, чувств-эмоций. Каждый, кто читает такие парсы, написанные человеком, умеющим так широко мыслить и чувствовать сердцем, начнет верить даже в то, что и камни рассказывают историю. А народ, способный оставлять следы своего искусства, культуры и литературы даже на бездушных камнях, «большой и великий своим духовным миром». Парсы учёного-писателя повествуют не только о башкирских памятниках, но и дают богатые и поучительные сведения философского звучания о видных сынах и дочерях Отчизны. Эти парсы не могут не заставить задуматься и не за¬тронуть струны читательской души. Что ни говори, ведь они, хоть и маленькие по форме, а обладают весомым содержанием. Только читателю нужно почувствовать эту весомость, как говорит сам автор, «всё равно, что, раз бив орех, нужно ещё найти его ядро». А поучительных, заставляющих задуматься, помогающих поднять настроение улыбкой «ядер (семян)» в парсах Г.Б.Хусаинова неисчислимое множество. Например, цикл парс под заглавием «Капли» тоже представляет собой «семена» — собрание «янтарных» мыслей и суждений, составляющее своеобразную мозаику жизни, способное и восхищать, и заставить задуматься, и удивить, и вызвать улыбку. Вот, например, его парса-миниатюра под названием «Мудрость». В ней автор через одновременное обращение к самым различным по своей сути темам и проблемам, загадочным явлениям и событиям, через последовательное «нанизывание» мыслей и суждений показывает удивительную странность и загадочность мира в философском плане. Приведем в пример маленький отрывок: «Раньше, когда мы были маленькими, на стены самых нарядных деревенских домов вешали холщовые полотенца и ковры, прихожая в них была отделена вырезной занавеской, скамейки покрыты самоткаными коврами, а в углу дома красовался сундук, на котором горкой лежали одеяла, перины и подушки. Они радовали глаз своим различным цветом и узорами. И всё это ручная работа, дело рук снох и невесток.
Судя по внутренней красоте дома, определялись трудолюбие, опрятность и мастерство снохи. Умелая сноха заметна уже своим искусством.
В те годы, когда мы были джигитами, девушки дарили нам платочки и перчатки. Они были такими узорчатыми и красиво украшенными, что, казалось, от тепла перчаток таяли руки, от красоты платочка – душа. Да и как не растаять, если каждый их шов и узор пропитаны теплом рук и светом очей любимого человека. И потому это ценнее ценного…
Красота ковра зависит и от узоров, и от разнообразия вышивки и украшений: смотря, сколько «ячеек» и украшений влезет в одну ладонь.
Ковёр ткут из парчи.
Шубу шьют из хорошей шкуры.
Одежду кроят из сукна.
Одеяло стегают на пару.
Узорчатый палас ткут из узоров.
Драгоценные камни по одному собирают.
Кто что любит: один – яблоко, другой – хурму, а кое-кто – орех.
У яблока и хурмы достаточно снять кожуру, а орех ещё следует расколоть».
Как видно из примера, в этой парсе нет событий, нет сюжетной линии, построенной в соответствии с идеями, мыслями и планами автора. Она напоминает по сути клубок из различных явлений, эпизодов и мыслей. Однако, построение их в одной определённой системе, и так же, как и в произведениях с «ящичной композицией» очерёдность их связи между собой и течение в логической последовательности образуют внутренний сюжет парсы. Важно и то, что в этих и других своих парсах автор вовсе не старается передать «сгусток» своих мыслей и суждений как бесспорную неопровержимую истину, а призывает читателя к беседе и самостоятельному размышлению. Он и сам часто обращается к таким приёмам, как диалог и монолог. Вот его парса под названием «В чём покажет?»: «Человек показывает себя в характере: примерен ли его характер, искренни ли поступки? Человек выражает себя в языке: знает ли суть сказанного, сладка ли его речь, не пуста ли она? Человек показывает себя в деле: знает ли он подход к работе, трудолюбив или ленив? Ум человека виден из его слов, а душа – из поступков».
А вот парса, названная «Вопросы аксакалов – ответы аксакалов», целиком построена на диалоге. Её автор, словно подтверждая сказанное нами выше, оканчивает свою речь строчками, призывающими читателей к дискуссии и размышлениям: «Читатель мой, если бы ты и сам попытался ответить на эти вопросы, то это стало бы для тебя проверкой силы твоего ума и аргументов».
Кстати, в своих парсах Г.Б.Хусаинов, наряду с внутренним монологом, часто и уместно использует такую своеобразную форму данного приема, при которой становится возможным строить диалог с собственным внутренним миром, душевно беседовать с самим собой и самому же отвечать на свои вопросы. При помощи этого приёма ему удаётся создать философскую гамму мыслей и суждений, эффект остроумной беседы.
Говоря в общем, парсы учёного-писателя и по содержанию, и по форме, и со стороны описательных средств и приемов удивительно богаты и разнообразны. Они сами по себе достойны специального изучения.
В данный серьёзный жанр с остроумным содержанием Г.Б.Хусаинов добавляет элементы юмора, открывает широкую дорогу для разных анекдотов и шутливых дискуссий. Сочетание частушек, прибауток с элементами содержащего намёк усмешки, шутки, затрагивающей струны души, несомненно делает произведения юмористического стиля и пафоса более благозвучными, весёлыми и читаемыми. По своей идейно-эстетической природе такие парсы иногда напоминают народные анекдоты. Вот, к примеру: «Однажды, когда злая жена мужчины с тигриной статью, который сам укрощал тигров, «разбушевалась» так, что её супруг, чтобы спастись от жены, вошёл в клетку, где сидел хищник. Его супруга, бушевавшая, подобно тигру, сама же боясь приблизиться к клетке, оскорбительно кричала ему: «Выходи, говорят тебе, трус!» Такая юмористическая меткость очень часто встречается в парсах учёного-писателя, написанных о человеке и мире, а в особенности о любви и семье. Парсы, посвящённые последней теме, по своей сути состоят из остроумных анекдотов, основанных либо на лёгких, либо на колких шутках. Парсы, объединённые под названием «Мир», которые составляют второй том трёхтомника избранных произведений Г.Б. Хусаинова, благодаря своему свойству, позволяющему передавать общественно-политические, философские, педагогические, моральные, эстетические взгляды обо всём мире в форме миниатюры, в стиле глубоко осмысленных и метких пословиц и поговорок, дали жанру парсы воистину гражданское право в нашей литературе и преобразовали его в жанр легко читаемого, поучительного характера.
По моему мнению, мастерство Гайсы Хусаинова в жанре парсы помогло в расширении его философских взглядов на жизнь и послужило созданию своеобразного философского вида парсы. Это же подтверждают и его большие философские сборники под названиями «Мои философии», «Вселенная», «Мораль», «Этика».
В этих парсах он выступает уже как воистину красноречивый и глубоко содержательный философ. По-моему, формой своего жанра он положил начало совершенно новому направлению в нашей литературе и философ-ской науке. Если выразиться точнее, он создал оригинальный вид нашей национальной философии. И есть большая надежда, что в будущем его станут специально изучать наши литераторы, особенно наши философы.
Обозревая литературное творчество Г.Б. Хусаинова и его жанровые формы, я хочу вновь акцентировать внимание на ещё одной своеобразной стороне его произведений. Это серии жанров автобиографических записок, воспоминаний, литературных портретов.
С возрастом учёный и писатель начал придавать важное значение документальным жанрам. В своей автобиографической книге, состоящей из трех толстых «тетрадей», он словно ставит цель: конкретнее и душевнее, поучительнее описать, как он понимает научную и литературную деятельность, внутренние особенности, духовную эволюцию своего внутреннего мира, и, в целом, свои взгляды на мир, науку, литературу и искусство. Обратим внимание на названия подразделов автобиографической книги: «Посещение могилы», «Моё племя», «Моя деревня», «Моё шежере», «Мои деды», «Мой отец», «Моя мать», «Я сам», «Воспоминания моего радостного детства», «Моя зелёная колыбель», «Мои первые духовные стремления», «Годы войны», «Я – пахарь», «Поучиться бы», «Школа-интернат», «Институт», «Московская аспирантура», «Мир науки и творчества», «Мой главный институт», «Духовный поворот», «Я – литературный критик», «Я – литературовед», Я – археограф», «Я – писатель», «В доме творчества «Переделкино», «Из ежедневника «Малеевки», «Научные путешествия», «Журналистика – сама по себе ремесло», «Время разбило сердце», «Моя нация – моя судьба», «Моё здоровье», «Моё последнее слово». Можно сказать, что эти названия являются своеобразным ключом, раскрывающим основную суть автобиографической книги. Данные автобиографические записки помогают представить духовную биографию, широту научно-литературных интересов учёного-писателя и, что самое главное, способствуют пониманию собственных воззрений автора на все эти записи.
В своей автобиографической книге Г. Б. Хусаинов как будто сам подробно описывает и подтверждает то, о чём мы уже говорили в нашем литературном портрете под заглавием «Энциклопедист нашего времени». У академика Гайсы Батыргареевича Хусаинова, как учёного энциклопедического характера, есть большая научная область, в которой он системно и вдохновенно работает – это башкироведение (наука о башкирах). Данная наука включает в себя изучение этногенеза, этнографии, фольклора, истории, культуры, языка, искусства, литературы башкирского народа как одну целую систему. Наш учёный добавляет сюда также аспекты национальной философии, этики, эстетики и культурологии. Он выдвигает на первый план создание общей концепции науки в данных областях и изучение её в целост¬ности.
Книга Г.Б.Хусаинова «Духовный мир башкирского народа» (2003) особо ценна тем, что она направлена на ясную постановку данных вопросов и освещение ранее не изученных аспектов.
Во-первых, духовная история, народное творчество, образование, культура, печать, литература исследуются в книге как одна система, а в специальных главах они изучаются отдельно. Автор ставит очень много новых задач и показывает красивые образцы их изучения на основе новых материалов, относящихся к каждой из областей. Возьмём, например, названия статей из разделов «История и духовная история»: «Духовная культура башкир», «Относительно к нашей древней истории», «Вопрос о тюрко-башкирском этногенезе», «Древнее башкирское государство и его ханы», «Баш кирские беи и эмиры», «Башкирские старейшины и герои», «Башкирские тарханы и дворяне», «Династия башкирских дворян: Султановы, Сыртлановы», «Пережитки шаманизма у башкир», «Древние башкирские календари», «Культ змеи у башкир», «Башкирские тамги. Тамговые писания. Балбалы», «Эпиграфия и эпитафия в Башкортостане».
Здесь можно было бы, перечисляя оригинальные взгляды и наблюдения по проблемам каждой главы, снова повести отдельную речь о каждом из них. Однако, об этом можно говорить очень долго. Ведь, действительно, просто немыслимо, сколько жизни и сил потратил учёный-писатель, чтобы раскрыть и обосновать не поднимавшиеся ранее проблемы. Сколько он выискал и нашёл архивных материалов. Это знает только он сам. И всё же, для примера, я бы назвал более поздние работы и открытия учёного в области фольклора. Даже в одной только этой книге автор подробно освещает такие новые и значительные вопросы, как народная память, народные институты и традиции, древние жанры башкирского фольклора, башкирская народная проза, поэтика эпоса «Урал-батыр», башкирский детский фольклор, идейно-художественные особенности творчества йырау и сэсэнов. Особенно важны его дальнейшие наблюдения, относящиеся к истории школ и истории национальной печати. Каждое из них звучит в науке как новое слово и раскрытие её новых аспектов. И создание нашим учёным всех возможных условий для реконструкции частично сохранённых в народной памяти образцов фольклора, например, эпосов «Идель и Яик», «Муйтен-бий», преданий об Угузе и Коркот-Ате – само по себе большой опыт и урок. И вовсе не случайно коллективный труд на башкирском и русском языках, посвящённый Гайсе Батыргареевичу Хусаинову в честь его 75-летия, был назван «Башкироведение» — «Наука о башкирах». В данной работе нашли место и труды Г.Б. Хусаинова, посвящённые его новым исследованиям почти по всем разделам науки. Литературный критик Рафаэль Азнагулов разделил свою большую статью, посвящённую литературной и научной деятельности Г. Б. Хусаинова, на 7 больших частей: литературные парсы, киссы, историко-биографические романы, литературная критика, литературоведение, учебники, общественная деятельность. Это деление, конечно же, условно. Вероятно, автор написал это согласно канонам статьи. Ведь, разнообразная деятельность учёного и писателя Гайсы Хусаинова не вместилась бы лишь в такие рамки. И потому будет правильнее назвать его в широком смысле энциклопедическим учёным и писателем.
Описывая всё это, мы ещё не останавливались на увесистых теоретиче¬ских монографиях и словарях Г.Б. Хусаинова под названиями «Башкирское стихотворение. Поэтический словарь» (2003), «Поэтика башкирской литературы. Часть первая. Теоретическая поэтика» (2006), «Литературоведче¬ский словарь» (2006), которые он написал, будучи большим специалистом в области теории литературы. Изучение и оценивание их уже само по себе сложное занятие. И всё же нельзя не выделить то, что в данных работах Г.Хусаинов успешно продолжил, обогатил и поднял на новый уровень традиции таких специалистов литературы, как Ахнаф Харисов, Ким Ахметзянов. А его работа, посвящённая проблемам поэтики, по сути явилась новым явлением в истории нашего литературоведения. В ней автор на основе богатых фактических материалов и источников, взятых в основном из башкирского искусства слова, отразил в форме определённой системы понятие поэтики, его своеобразные стороны, виды, их сущность. И трёхтомник его произведений («Сыны Отчизны» — 1998, «Мир» — 2000, «Моя судьба» — 2001) подтверждает, что это неоспоримая истина.
В парсе Г. Б. Хусаинова под названием «Время» есть следующие строки: «Ценность времени относительно к прошедшим часам оценивается нужностью дел, сделанных в эти часы. Проведёшь их с пользой – ты сам хозяин времени, проведёшь впустую – время властвует над тобой». Ведь не зря же наверно, автор решил зафиксировать эту свою мысль на бумаге. С моральной точки зрения, на такое способна только творческая личность, человек, который равно, как и Г.Б. Хусаинов, наряду с удовлетворением требований времени и ведением очень многих научно-литературных работ, успевает активно участвовать и в общественной жизни.
Действительно, уже в течение многих лет уважаемый учёный и писатель является членом правления Союза писателей Башкортостана, редколлегии журналов «Агидель», «Учитель Башкортостана», «Ватандаш», «Ядкар», издательства «Башкирская энциклопедия», учёных советов при вузах и научных учреждениях, Исполнительного комитета Всемирного курултая башкир, комиссии Государственной премии имени Салавата Юлаева и Терминологической комиссии. Он долгое время был бессменным руководителем секции критики и поэзии в Союзе писателей Башкортостана. И сегодня он также активно участвует в мероприятиях, проводимых различными общественными организациями. Различные конференции по филологии в большинстве случаев проводятся при его активном участии. Сегодня он является членом Президиума Башкирской академии наук и, как председатель литературоведческого Совета в отделе гуманитарных наук той же академии, ведёт большую научно-практическую работу.
Говорят: «По труду и почёт». Народ дал свою достойную оценку трудолюбивому сыну Отчизны. Учёному были присвоены такие почётные звания и научные степени, как профессор, действительный член (академик) академии наук Башкортостана, заслуженный деятель науки Башкортостана и России, лауреат Государственной премии Башкортостана имени Салавата Юлаева. Он награждён орденами «Знак Почета», Дружбы народов, несколькими медалями, нагрудными знаками победителя в соцсоревнованиях, Почётными грамотами.
Народный поэт Башкортостана, один из первых аспирантов Г.Б.Хусаинова Р.Бикбаев в одном из стихотворений, посвящённых своему учителю-наставнику , пишет:
Мало ли ты собрал по крупицам
Жемчужин, рассыпанных по стране,
Вместе с кураем Салавата,
Подобно его орлам по борьбе.
Благодаря тому, что совершил такой творческий подвиг, создал научные труды и произведения огромного значения, которые можно считать общим достоянием литературного и научного мира народов Башкортостана и России, учёный-энциклопедист и писатель Гайса Хусаинов – сам по себе уже феномен. Гиният Кунафин |