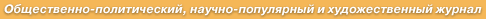Сталь ПобедыЭВАКУАЦИЯ
Колоссальным действом военного времени явилась эвакуация на восток. Она не была изобретением сталинского руководства и имела совсем недавний исторический прецедент. Спасались от немцев массовым исходом и во время Первой мировой войны 1914—1918 годов. Тогда из 25 миллионов жителей в областях, охваченных эвакуацией, снялось с мест 3 миллиона. По оценке современников, «железные дороги забиты, передвижение даже воинских грузов, подвоз продовольствия скоро станут невозможными». Высокопоставленный правительственный чиновник А.Н.Яхонтов, озабоченный трудным положением сограждан, оставил такое заключение: «Опустошить десятки губерний и выгонять их население в глубь страны — равносильно осуждению страны на страшные бедствия».
Существует мнение, что население тогда уходило не столько под давлением властей, сколько по собственному выбору, спасаясь от немцев. Как бы то ни было, в 1915 году волна эвакуации в лице граждан Польши, западных земель Белоруссии, Украины и Прибалтики докатилась и до Белорецка. С той поры в списках жителей появились «западные» фамилии.
В 1941 году ситуация, на первый взгляд, сложилась аналогичная: снова мировая война, главный противник России та же Германия, и снова трагедия отступления. Это — сходство. Рассмотрим отличия.
В Первой мировой Россия имела мощных союзников с первых дней войны. Немцы в период боевых действий сумели захватить лишь польские земли, входившие в состав России, и западные части Белоруссии и Украины. Русской армии удалось прочно стабилизировать фронт западнее Риги, Минска, Ровно.
Советское правительство, сумевшее внушить миллионам людей, что в дореволюционной стране все прогнило и во главе ее находились одни бездари и преступники, явно проигрывает все сравнения относительно первых лет военных действий. Да и бездарно завершенная Первая мировая война, когда немцам отдали по Брестскому договору треть Белоруссии, пол-Украины, завершалась не царским правительством, а большевистским.
Эвакуация 1915 года возникла едва ли не стихийно, спустя год после начала боевых действий, и не преследовала целей вывоза в первую очередь оборонных предприятий. В 1941 году с первых дней войны стала очевидной картина катастрофического начала. Совет эвакуации создан уже на третий (!) день после нападения Германии. Цель была одна — все подчинить интересам военной целесообразности. Страдания населения в расчет не принимались. Беда в том, что о людях никто не думал. Да, «все для фронта, все для победы», но не меньшей ли ценой досталась бы победа, если бы больше заботились о людях?
Подобные вопросы не идею эвакуации ставят под сомнение, коль дело дошло до ее необходимости, а вновь и вновь возвращают к мыслям о цене допущенных ошибок.
В организации эвакуации просто не могло не быть массы недочетов, неразберихи. Слишком сложная и грандиозная проводилась работа. Классический пример, иллюстрирующий общий фон того периода: на путях одной из станций случайно обнаружили вагон с золотыми слитками. Никто его не охранял. Сокровище не пропало. Так и в целом с переправкой грузов и людей. Несмотря на массу ошибок и случайностей, основная цель была достигнута: оборонные предприятия удалось спасти от захвата противником и увеличить производство военной техники в глубоком тылу.
Из 11 тысяч крупных промышленных предприятий, имевшихся в стране, на колесах оказалось 1523. Из них почти 90 процентов эвакуированы в первые три месяца войны. Фантастическая картина! На Урал прибыло 667 крупных предприятий, в Сибирь — 322, в Казахстан и Среднюю Азию — 308. Естественно, вместе с оборудованием ехали рабочие, специалисты, их семьи.
В Белорецк были эвакуированы Московский завод «Серп и молот», Клинский станкостроительный из Подмосковья, Одесский канатно-сталепроволочный, оборудование недостроенного завода из Харцызска.
Кроме промышленных предприятий, в Белорецке разместилось Ленин¬градское артучилище, в Тирляне — Рижская школа медсестер и еще десятки тысяч беженцев, которых надо было обеспечить работой, жильем, питанием.
Основная масса приехавших размещалась на квартирах в городе, поселках, окрестных селах. Жилось им крайне тяжело. На один скудный паек, мизерную зарплату можно было выжить с трудом. В городском архиве сохранились учетные листы на 1370 семей, бежавших от немецкого нашествия и за¬брошенных волею случая в Белорецк. В каждой семье дети. Большинство без отцов, которые или на фронте, или погибли. География беженцев понятна: Москва, Московская область, Ленинград, Смоленская, Калининская, Тульская, Орловская, Воронежская области. Из Белоруссии всего десяток семей. Оттуда бежать не успели.
Эвакуация из Москвы началась в первой половине июля — так ошеломляюще стремительным оказалось продвижение немецких войск вглубь нашей территории. Никто не ожидал такого развития событий. Каждый день ставил неожиданные, большие и малые вопросы. На чем выезжать, что с собой брать, куда ехать, на какой срок планировать отъезд, как оформлять документы, как не потерять родных и близких в этом великом переселении народов?
Один из июльских приказов по НКЧМ (Народный комиссариат черной металлургии) инструктировал отделы кадров:
«О записях в трудовые книжки работниц и женщин-служащих, освобождаемых от работы в связи с вывозом детей из города Москвы и других городов.
Секретариат ВЦСПС постановляет:
При освобождении от работы в предприятиях и учреждениях работниц и женщин-служащих, в связи с вывозом детей из города Москвы и других городов, в их трудовых книжках должна производиться следующая запись: «Освобождена от работы в связи с переездом в другую местность». То есть, ни слова об эвакуации.
Для приезжающих на новое место жительства были разработаны временные правила регистрации, облегчающие контроль за населением и ограничивающие неконтролируемые перемещения людей. 13 августа издан приказ «О прописке граждан, эвакуированных из прифронтовой полосы». На новом месте необходимо было прописаться в течение суток. Те, кто не имел паспорта, получали специальные удостоверения сроком на три месяца, действительные только в пределах данного населенного пункта.
События на фронте летом и осенью сорок первого года ухудшались с каждым днем. Не вызывало сомнений, что эвакуированным придется зимовать на новых местах жительства. Требовались срочные меры для размещения миллионов людей. 17 сентября по всем предприятиям НКЧМ рассылается приказ:
«О строительстве жилых помещений для эвакуированного населения.
Начальникам Главных управлений и директорам заводов, наряду с индивидуальным жилищным строительством, производимым рабочими и служащими эвакуированных предприятий, развернуть из местных материалов строительство жилых помещений упрощенного типа: общежитий, казарм, бараков, полуземлянок за счет средств, ассигнованных на жилищное строительство по плану 1941 года».
Этот приказ акцентировал внимание на индивидуальном строительстве. В нем подробно перечислено то, что необходимо сделать именно в этом направлении и лишь упомянута необходимость строительства «помещений упрощенного типа». На бумаге запланировали выделение участков под индивидуальное строительство, долгосрочных кредитов в размере 50-ти процентов стоимости жилья. Вторая половина кредита оплачивалась из государственного бюджета. Предписывалось выделять застройщикам лес, стандарт¬ные двери, окна, мебель. Приказ этот может послужить разве что иллюстрацией холостой работы аппарата управления и его полной оторванности от реальной действительности. Ни о каком хоть сколько-нибудь массовом индивидуальном строительстве эвакуированными и речи быть не могло. Руководство Совета эвакуации вспомнило о суровых зимах на востоке страны с большим опозданием. Только 12 ноября 1941 года родился более реалистичный приказ НКЧМ:
«В целях скорейшего расселения эвакуированных рабочих на предприятиях НКЧМ приказываю:
а) немедленно приступить к строительству землянок в количествах и сроках, согласно приложению №1;
б) по согласованию с местными, партийными и профсоюзными организациями использовать на строительстве землянок рабочих в свободное от работы время, эвакуированных рабочих, а также домохозяек и членов семей;
в) работы вести в две—три смены».
В приложении Белорецкому сталепроволочно-канатному заводу предписано построить два общежития по 125 человек к 15 декабря и к 1 января 1942 года три общежития комнатного типа по 36 человек и одно квартирного типа. Белорецкому металлургическому заводу построить к 1 декабря два общежития по 125 человек и к 25 декабря два комнатного типа и одно — квартирного. Белорецкой лесной конторе, подчинявшейся БМЗ, приказано выдать обоим заводам 507 кубических метров лесоматериалов. Причем, первые 189 кубов через три дня после издания данного приказа.
Построены были эти землянки или бараки, мы не знаем. Свидетельства ветеранов противоречивы. Фактом остается то, что все эвакуированные крышу над головой имели. Размещение шло не за счет нового строительства. Основная масса эвакуированных расселялась во всех мало-мальски пригодных служебных помещениях и среди местного населения.
После разгрома немцев под Москвой среди вынужденно приехавших началось радостное оживление — скоро домой. Но в столице прекрасно знали, что до победы не месяц и не год. За подписью наркома И.Тевосяна на все заводы черной металлургии 10 мая 1942 года ушел приказ:
«В последнее время имеют место случаи возвращения работников на заводы, с которых они ранее были эвакуированы, по распоряжению отдельных работников наркомата, а также по инициативе директоров эвакуированных предприятий. В связи с тем, что многие из этих переводов являются необоснованными, а в отдельных случаях приносят прямой ущерб делу, ослабляя важные участки работы, приказываю: запретить возвращение эвакуированных работников без моего личного разрешения или разрешения заместителя наркома тов. Бычкова».
Правительство было заинтересовано в том, чтобы часть эвакуированных навсегда осталась на Урале, в Сибири, Казахстане, Средней Азии. В эти края хороших специалистов из западных районов, тем более, из столиц, направить можно было только принудительно, а тут сразу масса квалифицированных рабочих, инженеров, руководителей силой военных обстоятельств оказалась в местах, где, по понятиям державного Центра, могут жить лишь судьбой обиженные или властью наказанные. Не случайно наркомат и в 1942 году настойчиво возвращается к идее индивидуального жилищного строительства.
В мае заводам Наркомчермета и Главметиза выделяется 8,5 миллиона рублей для кредитования желающих обустраиваться в восточных районах. Директорам поручено широко оповестить рабочих и служащих эвакуированных предприятий о льготах, предоставляемых правительством. Вновь предлагается организовать выделение участков, оказать помощь в строительстве домов транспортом, местными материалами. Обращено внимание на целевое использование кредитов.
По разнарядке наркомата БМЗ выделено 100 тысяч рублей, из них Тирляну — 25 тысяч и отдельно БСПКЗ — 22,1 тысячи. Воспользовался ли кто-нибудь этими средствами, неизвестно, но то, что эвакуированные сыграли существенную роль в развитии металлургического и метизного производства в Белорецке, несомненно.
ПРОВОЛОКА И КАНАТЫ
Объем валовой продукции на сталепроволочно-канатном заводе в 1945 году возрос по сравнению с 1940 годом на 47,7 процента. Ежегодный прирост составлял 9,54 процента. Темпы роста достаточно внушительные, но в предвоенные годы в отдельные периоды они были еще выше. Годы войны привлекли на заводы эшелоны дополнительного оборудования, внедрили жесткую дисциплину, напряженный ритм производства.
Первые недели войны прошли в понятной растерянности, проводах на фронт рабочих и специалистов. Не сразу поступили оборонные заказы, не сразу наступила трагическая ясность затяжного характера войны, которая потребует предельного напряжения физических и духовных сил. Приоритеты, основные направления деятельности на ближайшие месяцы и годы стали определяться с поступлением телеграмм об отправке в Белорецк людей и грузов, эвакуируемых из западных районов страны. Еще яснее стали масштабы наступившего бедствия с массовым поступлением военных заказов.
Наиболее полную картину производства на БСПКЗ в годы войны дает рукопись, созданная по инициативе и при непосредственном участии бывшего директора завода Н.С.Голубева. Материалы этой рукописи, дополненные воспоминаниями ветеранов, архивными документами, и составляют содержание этой главы.
Одна из первоочередных задач второй половины сорок первого года заключалась в том, чтобы в кратчайшие сроки задействовать поступающее оборудование. Необходимо было форсировать окончание строительных работ, начатых в 1940 году, по перекрытию пролетов между первым, вторым и третьим корпусами. Требовалось расширение патентировочных и травильных отделений. Крайняя срочность выполнения работ вынудила отказаться от строительства нового корпуса для патентовки и травилки, как это намечалось утвержденным проектом реконструкции, и разместить эти отделения в существующих помещениях. В течение второго полугодия сорок первого года смонтировали 170 многократных волочильных машин, размещенных в волочильных отделениях крупного волочения, двухэтажном волочильном корпусе и в перекрытых межкорпусных пролетах.
Для расширения передела травления в старой травилке была дополнительно оборудована вторая линия травления в составе травильных, известковых и промывных баков. Построена дополнительная четырехмерная сушильная печь. Новые патентировочные печи строились в корпусе № 1 и в корпусе № 5. Все семь печей уже действовали в начале 1942 года. К этому времени на базе второго волочильного отделения и оборудования застроенных пролетов был создан второй сталепроволочный цех. Он имел свои травильное и патентировочное отделения.
В цехе №1 работали машины типов «Брайтенбах», «Кратос», «Морган», «Герборн», «Мальмеди». Значительно возросла роль многократного волочения на грубых, средних и тонких сортах проволоки. Большое значение стало иметь многократное оборудование при волочении тончайших и наитончайших сортов. В то же время большое количество проволоки протягивалось еще на однократном оборудовании.
Цех №1 специализировался на высокоуглеродистых сортах и тончайших размеров среднеуглеродистой проволоке. Цех №4 — на среднеуглеродистой (в основном — канатной) и низкоуглеродистой. Общая мощность обоих цехов составляла 66 тысяч тонн, в числе которых 14 тысяч тонн высокоуглеродистой и 39 тысяч тонн среднеуглеродистых сортов.
Число работающих на заводе в первые месяцы войны заметно убывало, но благодаря базе, заложенной в предыдущие годы и начавшейся в 1940 году реконструкции, удалось увеличить объем валовой продукции в 1941 году на 19,5 процента, а по тоннажу — на 17 процентов.
С поступлением военных заказов идет наращивание выпуска оборонной продукции. Например, проволоки пружинной в 1942 году было выпущенопочти в два раза больше, чем до войны. Проволоки рояльной — 435 тонн. Особо большое значение для нужд обороны имело освоение и развитие производства проволоки высоких сортов. Исключительно жесткие требования по механическим свойствам, высокая трудоемкость изготовления осложняли задачу освоения. Только в 1942 году удалось наладить бесперебойный выпуск уникальной продукции и выдать 126 тонн проволоки. На следующий год выпустили 226 тонн проволоки высоких сортов, полностью обеспечив военный заказ.
В продукции завода остро нуждались предприятия, производившие самые разные виды вооружений. Далеко не все шло гладко. Нередко срывались военные заказы, и чтобы укрепить дисциплину, подкрутить и без того достаточно прочно закрученные гайки, завод распоряжением Совета народных комиссаров СССР 16 апреля 1942 года был объявлен военным предприятием. Во исполнение распоряжения СНК приказом НКЧМ 18 апреля заводу присвоили наименование «завод №706». У всех рабочих и служащих изъяли паспорта, военные билеты и взамен выдали удостоверения, нарушители трудовой дисциплины подпадали под действие Указа от 26 декабря 1941 года, объявившего всех рабочих и служащих предприятий военной промышленности и работающих с ними в кооперации мобилизованными на весь период войны. Самовольное оставление рабочего места, опоздание, невыполнение плана, нарушение технологии, поломка оборудования грозили лишением свободы. И наказания не заставили себя ждать. Множество работников, даже женщины, старики и подростки, за малейшие провинности оказались в лагерях.
Война потребовала увеличения выпуска и нерасслаивающейся рояльной проволоки, применяющейся при изготовлении пружин для винтовок, автоматов, пулеметов. Повышение надежности продукции — это целый детектив, где шел непрерывный поиск оптимального соотношения многочисленных параметров: температуры, длительности патентирования, свинцовой ванны, режима волочения и травления, томления, известкования. Опыт практиков, расчеты инженеров, помноженные на жесткий спрос, приносили свои плоды.
В связи с военными заказами пришлось резко наращивать производство кабельной проволоки, авиационных и аэростатных тросов. В 1942 году выпуск этих видов продукции возрос в четыре раза. Установка нового волочильного оборудования позволила увеличить производственные мощности, заложила возможности дальнейшего роста производства. Нередко оно превосходило по своим техническим характеристикам то, что ранее имелось на заводе. В частности, новое оборудование имело водяное охлаждение волок и барабанов и позволяло осуществлять волочение проволоки на значительно более высоких скоростях.
В вагонах с оборудованием московского завода «Серп и молот» доставили электрические отжигательные печи, волочильные и плющильные машины, предназначенные для организации производства легированной проволоки. Одновременно прибыла небольшая группа специалистов и квалифицированных рабочих.
Свободных производственных площадей на заводе не было. Поэтому, скрепя сердце, пришлось демонтировать в корпусе №3 оборудование по изготовлению гвоздей и шурупов, переместить его в корпус №13. Первоначально там предполагалось разместить спецсклад. Дела на новом месте пошли неплохо. В 1942 году изготовили 859 тонн гвоздей и 961 тонну шурупов, перекрыв плановые задания.
В январе цех легированной проволоки вступил в число действующих, однако становление шло непросто. Сравнительная новизна производства проволоки из легированной стали, отсутствие необходимой информации, научной и учебной литературы потребовали от работников завода дополнительного напряжения сил. Пришлось искать методом проб и ошибок, экспериментировать при освоении выпуска каждого нового вида проволоки. Ко всем сложностям — в новом цехе не было своего травильного отделения.
С вводом цеха в строй сразу же поступил важнейший заказ на освоение производства шарикоподшипниковой проволоки. И если Белорецкий металлургический завод справился с выплавкой соответствующей стали в мартеновских печах, сталепроволочникам еще предстояло научиться изготавливать из нее эту важнейшую продукцию.
Освоение производства шарикоподшипниковой проволоки шло с большими трудностями. Нередко в бедах сталепроволочников значительная доля вины лежала на соседях-металлургах. Катанка, поставляемая БМЗ, была поражена многочисленными дефектами поверхности, именуемыми на профессиональном жаргоне волосовинами, закатами, пленами. В процессе изготовления проволоки эти дефекты несколько уменьшались в размерах, но оставались достаточно явными. В отдельные периоды брак проволоки по наружным дефектам доходил до сорока процентов.
В конце 1942 года завершили строительство печей окислительного отжига. После серии опытных отжигов нашли оптимальное соотношение температуры и времени нагрева, последующего охлаждения.
Работу сталепроволочников можно сравнить с работой повара экстра-класса. Блюдо для гурманов готовится по индивидуальной технологии. Здесь имеет значение каждый грамм каждого компонента, время закладки, температура огня, совокупность и совместимость всех продуктов. Отличие в том, что любое блюдо повара съесть все-таки можно, а вот отклонение от заданных параметров заказанной проволоки уведет всю партию в брак.
После серии проб установили необходимый режим окислительного отжига катанки:
— нагрев в течение пяти — шести часов до температуры 740— 750 градусов;
— выдержка при этой температуре в течение двадцати часов;
— охлаждение вместе с печью за шесть часов до 550 градусов;
— охлаждение на воздухе.
Отжиг при данном режиме придавал металлу структуру зернистого цементита и механические свойства, необходимые при волочении.
Окислительный отжиг имел еще одно преимущество. В процессе длительного пребывания катанки при высокой температуре она покрывается слоем окалины толщиной 0,15—0,20 мм. При этом ликвидируется значительная часть дефектов поверхности катанки. После внедрения окислительного отжига технологический процесс изготовления шарикоподшипниковой проволоки выполнялся в следующей последовательности:
— травление катанки;
— окислительный отжиг;
— ломка окалины механическим путем;
— повторное травление катанки;
— волочение на заданный размер;
— светлый отжиг в шахтных электропечах.
Последний этап стал возможен благодаря эвакуированному оборудованию. В приказе НКЧМ от 10 марта 1942 года говорилось:
«За успешное выполнение строительно-монтажных работ по восстановлению эвакуированного оборудования отделения светлого отжига на Белорецком сталепроволочно-канатном заводе... объявить благодарность всему коллективу строителей и монтажников.
Наградить знаком «Отличник социалистического соревнования НКЧМ» и премировать месячным окладом:
Парфентьева Николая Павловича — директора БСПКЗ;
Степанова Илью Никифоровича — начальника Белорецкого строительно-монтажного управления «Магнитострой»;
Кипарисси Дмитрия Кипарисовича — главного инженера проекта «Гипрометиз».
За годы войны шарикоподшипниковой проволоки было выпущено 2495 тонн, что полностью удовлетворило военных.
В 1942 году завод получил еще одно срочное и ответственное задание — изготовить проволоку для производства клапанных пружин авиационных моторов. И вновь у заказчиков очень высокие требования к качеству продукции. Попытались изготовить проволоку по обычной технологии. Не получилось. Не помогли и попытки зачистить поверхность шлифованием. Пробовали и так, и эдак. Казалось, дело пошло, но через некоторое время военные предъявили к проволоке новые требования. Процесс совершенствования техники бесконечен, и то, что считалось вполне приемлемым вчера, сегодня не годилось.
Пришлось снова искать пути удовлетворения новых требований. Вместо шести операций над проволокой колдовали теперь в два раза больше, производя следующие операции:
— травление;
— окислительный отжиг;
— ломка окалины;
— второе травление, которое тоже включало в себя не одну стадию. После обработки серной кислотой шла промывка, потом томление, известкование, сушка. Каждая стадия имела свои особенности, требовала своего подхода, умений и навыков рабочих и специалистов:
— волочение;
— светлый отжиг;
— третье травление со своими особенностями обработки;
— второе волочение;
— рубка прутков;
— шлифовка прутков в два приема. Вначале снимали металл на толщину одной десятой миллиметра, второй раз на пять сотых миллиметра;
— полировка прутков.
Эта проволока шла под обозначением 50ХФА.
И таких примеров сотни. Они свидетельствуют, как непросто было выполнять заказы фронта. Готовность работать на износ, добротный профессионализм наших металлургов позволили выиграть битву тылов. За тысячи километров от линии фронта по-своему вели сражение немецкий Рур и россий¬ский Урал. Вопрос «кто кого?» решался не только на фронте, но и в завод¬ских цехах.
Рассмотрим еще несколько примеров, показывающих роль эвакуированных предприятий в расширении и развитии уральской базы метизной промышленности.
Специалисты московского завода «Серп и молот» привезли с собой технологии изготовления нержавеющей проволоки, нихромовой, из железо-хромо-алюминиевых сплавов. В Белорецке совместными усилиями инженеров и рабочих нескольких заводов технологии продолжали совершенствоваться. Из железа, хрома и алюминия, кроме московского «фехраля», наладили выпуск еще двух сплавов — ЭЙ 341 и ЭЙ 340. Иной раз заказы по объему были совсем небольшими, но все они шли на производство вооружений.
В тоннах больше всего из легированной проволоки выпускали шарикоподшипниковую. За год до 795 тонн, на втором месте проволока 50ХФА и серебрянка — 510, на третьем сварочная — 344.
Совсем немного ЭЙ 341 — 4,7 тонны, ЭЙ 340 — 4,6. Но и без этих сплавов не обходилась армия. А были еще проволоки хромомолибденовые, хромокремнемарганцевые, пружиннованадиевые и другие.
БСПКЗ оказался единственным заводом по выпуску стальной проволоки и канатов в стране. Пристрой к авиаканатному цеху начали в 1940 году. В сорок первом его форсированно достраивали и монтировали эвакуированное оборудование. В течение первых полутора лет войны в авиаканатном цехе установили 50 прядевьющих и канатных машин. Это позволило резко увеличить выпуск тончайших тросов — авиационных и аэростатных.
К весне 1943 года завершили строительство нового канатного цеха. Оно тоже начиналось до войны. В нем установили канатное оборудование из Москвы, Одессы, Харцызска. В конце войны поступило некоторое количество машин из Восточной Германии в качестве трофеев. Канаты цех стал выпускать с мая 1943 года. Оторванность от основных коммуникаций завода создавала большие трудности по обеспечению цеха проволокой, сердцевиной и вспомогательными материалами. Зимой он отапливался водяным котлом при цехе. Мощность его была недостаточной и температура нередко опускалась ниже нуля. Тем не менее, цех постоянно увеличивал объем производства.
За годы войны завод увеличил выпуск канатов в тоннах на 153 процента.
В июле 1943 года, когда на фронте разгорелись ожесточенные сражения, в которых все отчетливее проступал неизбежный крах гитлеровской Германии, хозяйственники обдумывали пути и методы восстановления промышленности, пострадавшей в зоне боевых действий.
В Белорецке по инициативе Академии наук СССР и Народного комиссариата черной металлургии состоялось совещание по реконструкции производства шахтных канатов в СССР. В нем принимали участие академик А.А.Ско¬чинский, профессор Г.Н.Савин, представители НКЧМ, завода «Серп и молот», Магнитогорского калибровочного завода, специалисты по добыче каменного угля. На совещании отмечалось, что наши канаты уступают зарубежным по износостойкости и прочности. Понятно, что речь шла о безопасной работе и жизни шахтеров. В преддверии восстановительных работ в Донбассе и Криворожье необходимо было определиться с параметрами канатов, которые, в свою очередь, диктовали типы и размеры подъемно-транспортных механизмов в шахтах. Специалисты выработали рекомендации, направленные на устранение указанных недостатков. Если не вдаваться в технические премудрости, они сводились к тому, что канаты должны быть прочнее, долговечнее и легче.
И еще одно направление. Потребности военного времени вынудили часть нового здания, выстроенного под цех гальванического оцинкования проволоки, отвести под цех горячего оцинкования. В остальной части расположились ремонтные службы — ремонтно-механический цех с кузнечным, чугунолитейным и инструментальным отделениями и электроремонтный цех. Мощность цеха покрытий со временем возросла и это позволило обеспечивать оцинкованной проволокой заказы флота, энергетиков и другие.
В 1944 году был построен новый двухэтажный корпус, где разместилась ЦЗЛ — Центральная заводская лаборатория. Она включала химическое, металлографическое, механическое и экспериментально-исследовательское отделения, техническую библиотеку.
Так, год за годом всю войну «пахали» белоречане, не зная выходных и отпусков. Завод стал гораздо мощнее, солиднее, подрос во всех отношениях. Как уже отмечалось, по валовому производству выпуск продукции возрос на 47,7 процентов, по тоннажу — на 58 процентов.
Что собой представляла структура выпускаемых изделий к концу войны?
Производство сталепроволочных изделий возросло на 44,5 процента. Произошло это в первую очередь за счет канатов. Здесь самый настоящий скачок: с 7353 тонн в 1940 году до 18623 тонн в 1945. Связано это с потребностями восстановительного периода и с возросшими возможностями белорецких канатчиков после введения в строй нового цеха.
В четыре раза упал спрос на автоплетенку. Но это падение было временным. Зато резко увеличилось производство железопроволочных изделий. В 1943 году на 92,4 процента; на следующий год — на 65 процентов.
Произошли изменения с сортаментом стальной углеродистой проволоки. Снизился выпуск сортов, применявшихся в легкой и текстильной промышленности, — игольной, кардной, ремизной. Значительно больше выпускали пружинных сортов, особенно таких трудоемких, как рояльная. Освоен выпуск оцинкованной проволоки для сталеалюминиевых проводов и заклепочной для авиапромышленности. Не случайно нарком авиационной промышленности Шахурин хорошо знал Белорецкий сталепроволочно-канатный завод и не раз за его подписью сюда приходили телеграммы со словами благодарности и подстегивающими просьбами.
Все годы войны заводчане жили в состоянии величайшего напряжения. Плохо работало снабжение. Голодали. Недосыпали. Не было одежды, обуви.Часто возникали перебои с электроэнергией. Трудно давалось топливо. Коллектив состоял более чем наполовину из подростков и женщин, не имеющих достаточной квалификации и опыта. Производительность труда даже в 1945 году составляла лишь 86 процентов от довоенной. Выполнение заказов достигалось работой на износ. Брали чаще числом затраченных часов, а не умением. Со своими задачами завод справился в основном за счет невероятно изнурительного труда, чудовищного перенапряжения сил людей, самой жесткой дисциплины тоталитарного режима.
— Что было самым ярким, светлым событием в годы войны?
— Ничего, — задумавшись, ответил старик, всю войну проработавший на СПКЗ вместе с малоопытными подростками и женщинами.
Все жили ожиданием. Не думая об этом в повседневной суете, все в глубине души ждали окончания ненавистной войны, первого дня долгожданного мира. Александр Егоров |