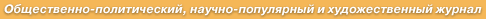Самый дорогой тостВ большой, наполненный солнечным светом дом Тайфура ворвался День Победы. Бокалы звенели, словно весенние птицы, гости подпевали им своими веселыми голосами, — и вдруг, в самом разгаре доброго застолья, в дверь тихонько постучали.
Тайфур встал из-за стола, извинился перед гостями и, стараясь держаться по-солдатски прямо, отправился в переднюю комнату. За это время успели еще раз постучать. Наконец, Тайфур открыл дверь.
На пороге стояла девушка-почтальон.
— Марзия, доченька, — обрадовался Тайфур, — проходи, проходи... С хвальбой ты к нам пришла1 .
Девушка переступила порог и пожала хозяину дома руку:
— С праздником вас, Тайфур Янбекович! — из распухшей от газет и журналов сумки она достала небольшой сверток. — Вот вам поздравления от ваших фронтовых друзей, — Марзия подарила Тайфуру искреннюю улыбку, и на ее розовых щечках мелькнули ямочки. — Желаю вам отличного праздника! — по-девчоночьи мягко и застенчиво сказала она и потянулась к дверной ручке.
— Доченька, зайди, посиди у нас! — позвал Тайфур.
— Очень бы хотела зайти, да не могу я. Спасибо, Тайфур Янбекович.
— Наверное, думаешь, скучно тебе будет среди стариков…
— Ну что вы… — девушка показала на сумку-толстушку. — Нужно разнести по адресам. Ждут подписчики… — и юная почтальонка, попрощавшись, побежала вниз по деревянному крыльцу.
Тайфур зашел в рабочую комнату, сел на диван и с волнением развернул заветный сверток. В свертке, словно в волшебном сундучке, таилась телеграмма.
«Друг Тайфур! От всей души поздравляю тебя с Днем Победы. С нашим 9 Мая. Желаю здоровья и счастья. Твой однополчанин Данияр Азаматов. Алма-Аты».
Господи, сколько воды утекло! А под кратким, но таким родным посланием — письма, открытки, фотографии со всей России и бывших советских республик: Учалы, Баймак, Волгоград, Москва, Брест, Бишкек, Ялта…
Когда Тайфур прочел последнее письмо, ему показалось, что он вот здесь, на стареньком диване, переговорил со всеми своими друзьями-однополчанами. Душа его, словно сосуд, до краев наполнилась сокровенными светлыми мыслями. Марзия, доченька, как же ты приумножила радость этого дня драгоценным свертком!.. Тысячу раз спасибо тебе сказать — и то будет мало. Есть на свете знаменосцы. А ты, наша славная сельская девочка, — письмоносец. Ты, Марзия, — словно солдат армии почтальонов… Разные вести вы приносите: и радости, и беды. И, с какой бы новостью вы не входили в дома, души хозяев непременно охватывает волнение. Письмо или телеграмма — хозяин берет их так трепетно в руки, словно это махонькие птички. Дай Бог, чтобы синие… Впрочем, птицу счастья в вашей сумке заметишь сразу: вы кричите о ней еще издали. А вот птицу печали… Вы, конечно, стараетесь ее спокойно передать, но, верю, сердца ваши разрываются от сострадания к хозяину. Даже кажется порою — почтальон свое простреленное горем сердце из груди вырывает. Сердце со словами-пулями… Только виду старается не подавать.
Как ты, Марзия. Как многие письмоносцы до тебя.
* * *
Хабира томилась в ожидании письма. От мужа и двоих сыновей почтальонка приносила ей недобрые вести. Но бедная мать целыми днями сидела у окна в надежде получить весточку от самого младшего сына, который воевал далеко на юге. Завидев почтальонку, она принималась тихонько наблюдать за ней. Если видела, что вестница счастья и беды заворачивает к дому, начинала улыбаться и, казалось, молодела на несколько лет; гостью она приглашала к самовару и просила прочесть письмо. Если же почтальонка проходила мимо дома, Хабира не переставала глядеть в окно, словно надеясь, что она зайдет на обратном пути. А уж потом падала со слезами в подушку.
Она не поверила, когда ее младший сын пропал без вести. Только перестала смотреть в окно. Начала выходить навстречу почтальонке. Расспрашивала ее — и вновь не верила.
А верила в одно: кто-то должен вернуться. Ведь так говорила и почтальонка. Да-да, кто-нибудь обязательно вернется! С этой неистовой верой Хабира бралась за иголку, накладывала заплаты на мужнины и сыновние рубашки и штаны, готовила подарки, которые полагалось отдавать свахам, проветривала их на улице от моли; она мыла полы, белила печку, чистила простоквашей и заливала теплой водой медный кумган. Она ходила в поле и выпрашивала у трактористов керосин — на случай, если он вернется ночью…
Только свеча никак не хотела гореть.
…Когда он вернулся в апреле сорок пятого, Хабиру было не узнать. Она лежала на кровати и не отвечала на то, что кто-то называл ее «мамой». Но чудо случилось: внезапно она спросила «кто это»… И услышала:
— Я, мама, — твой сын.
Хабира попыталась встать, но, едва приподнявшись, со стоном упала назад.
— Сын мой?! — воскликнула она и принялась дрожащими руками гладить лицо и волосы молодого мужчины. — Но… который же, который? Булат, Сабирьян или…
— Тайфур, мама.
— Дитя мое, Тайфур… — слабеющим голосом отозвалась мать. — Не может быть… Тайфур… он ведь умер, погиб… Так ведь, Райса? Почему молчишь, Райса? Сама ведь говорила: без вести… — руки Хабиры отчаянно ухватились за пустой рукав тайфуровой гимнастерки. Как же так, отчего же, Господи? Она так верила в чудесное возвращение с этой проклятой войны хотя бы одного своего сыночка, — и он пришел, и он сказал «Тайфур, мама», — но он без руки, но она его даже не видит… и не увидит уже никогда.
* * *
Тайфур узнал, кто такая Райса, которую звала мать перед смертью. Это была та самая почтальонка, приносившая Хабире горькие и родные письма из окопов и лазаретов. Эти письма и посеребрили темные волосы Хабиры. Подорвали здоровье, раздавили тяжестью строк... Значит, Райса была для матери Тайфура посланницей печали? Или же — маяком вечной надежды? Как бы там ни было, имя «Райса» стало для сына Хабиры необыкновенным — волшебным и близким.
Тайфур помнил, что когда-то эта «волшебница» Райса была совсем крохотной девчонкой. Казалось, еще недавно она едва поднимала ведра с коромыслом; теперь же стала высокой стройной красавицей, которая каждый день носит почту со станции Карламан, что в девяти километрах от села.
Волевая девушка Райса. С характером.
Она с Тайфуром легко нашла общий язык.
* * *
В тот день сельчане сеяли хлеб. Тайфур рассыпал последние зерна и с облегчением вытер пот с лица пустым рукавом своей потертой гимнастерки.
— Смотрите! Смотрите! — послышались крики. — Кто-то скачет к нам из села…
Тайфур оглянулся. Действительно, по большаку на поле летел стремглав какой-то всадник. Каждому было ясно, что дело чрезвычайной важности; работа остановилась в ожидании чего-то невероятного.
«Гонец» приближался, и некоторые в поле смогли его немного разглядеть.
— Вот те раз! Это ж баба, — удивленно сказал кто-то. — Вишь, платок на ветру… Да кто ж это?
Мгновение — и всадник повернул на вспаханное поле; лошадь дернулась на мягкой, вязкой земле, рванулась вперед с явным усилием, но споткнулась и упала. Былая наездница тут же вскочила на ноги, поскорее отряхнулась и, даже не глядя на кобылу, бросилась к сеяльщикам.
Теперь ее узнали.
Райса!
— Победа, победа! — кричала она.
Не помня себя от радости, едва переводя дух, она обнимала отца, работавшего в поле, и первых встреченных сеяльщиков, — как вдруг, приблизившись к Тайфуру, внезапно опомнившись, всплеснула руками и побежала к упавшей кобыле.
— Савраска моя, савраска!
Райса рыдала, причитала, трепала густую гриву своей бедной лошади.
— Саврасушка, милая, что с тобой, что случилось? Пять лет были вместе…
Кобыла лежала на ребре, раскинув ноги, словно собираясь перевернуться на бок. К белой звездочке на ее лбу пристал ком земли, а в больших и ясных глазах показались серебряные слезы.
— Разрыв сердца, — нагнувшись к дочке, сказал Минияр-бабай. — Это все весенняя бескормица… Эх, савраска! — голос отца стал тише и нежнее. — Не плачь, Райса, — такую славную весть принесла… Неси радость в дома, получай суюнчи!2
Райса не слушала отца. Обливалась слезами. Весть, которую принесла она, была ранена, словно птица в синеве мирного неба. Значит, и душу девушки подстрелило горе.
И рана эта болела до вечера.
* * *
А вечером сеяльщики вернулись с поля — и разлились по сельским улицам задорные звуки гармони, и посыпался из широко распахнутых окон золотой и звонкий смех. Отлегло у Райсы от сердца, закружили ее молодые игры.
Парни и девушки достали из сундуков праздничные наряды, вышли на уйын3 . Вот уже встали в круг, поют и пляшут. В центре хоровода кружится Райса, забывая о былых невзгодах. А игра, словно костер озорной, разгорается…
Белоснежное платье надела она,
Но подол оказался ей коротко сшит.
Расторопна, красива, честна и умна…
Где же нашей красавице вровень джигит?
Молодежь переглядывается, ищет удальца для Райсы. Тук-тук, тук-тук — учащенно, словно в бою, бьется сердце младшего сына Хабиры. «Есть купля, есть продажа?» — спрашивает веселая толпа. Тайфур берет Райсу за руку и твердо говорит: «Нет ни купли, ни продажи». Так и уводит Райсу на речку. А сам думает, не сердится ли она на такую его отчаянность. Но лицо Райсы необычайно светло, она словно хочет прижаться к нему, стесняется и взглядом говорит: «Не сержусь, Тайфур, согласна я! Хоть век не продавай, никому не отдавай!».
…Он и не отдал. Вот уже полвека живут они душа в душу.
* * *
Тайфур неспешно встал с дивана и подошел к окну. По улице шла Марзия. Сумка ее заметно истощала: видать, успела обежать все дома крайней улицы.
Точь-в-точь как Райса в былые годы…
Верно! Как же Марзия напоминает его жену: аккуратный шаг, толстая коса на груди, открытая солнечная улыбка… От этой улыбки стало радостно вдвойне, эта улыбка подарила Тайфуру встречу с самыми чистыми минутами жизни, на миг вернула его в молодость, помогла вспомнить задорные песни того майского вечера. Эти песни, наверно, приходили к нему во сне — и таяли с рассветом; но теперь он не забудет их до самой смерти.
Держа в руках телеграммы и открытки, оставленные Марзией, Тайфур вернулся к столу.
— Столько писем пришло… — с волнением сообщил гостям ветеран. — От моих друзей… однополчан…
Услышав это, один из гостей предложил тост за тех, кто вернулся с Победой домой, и за тех, кто остался во имя Победы на поле бранном. Это было, конечно, верным предложением; но минут через десять из-за стола встал Тайфур и твердо, как и много лет назад в игре, произнес:
— Давайте поднимем бокалы за тех, кто приносит нам добрые вести. За здоровье и счастье почтальонов. Ведь именно они были в годы войны мостками надежды между тылом и фронтом.
Все гости одновременно посмотрели на Райсу. Она покраснела, как застенчивая девушка, и улыбнулась, посмотрев на сидящего рядом мужа.
— Выпьем до дна, — сказал он, оглядев гостей. — Каждое доброе слово на празднике — сокровище. Но это — мой самый дорогой тост.
На половодье
Не белый — седой орел стремительно пикирует в бездонных высях, расправив широкие крылья, — и замирает на миг. Вытянув уже почти голую шею, раскачиваясь на воздушных волнах, он глядит на землю, словно строгий демиург. А на земле, среди скалистых берегов, течет бурная, полноводная река; и на этой реке качается поплавком маленькая незатейливая лодочка…
Седому орлу она хорошо знакома. Эта лодка будет плавать в освобожденной ото льда реке до самых осенних заморозков. Потому что хозяин ее, старик Нажметдин, присматривает за во-он теми ярко-красными бакенами. И, случается, на этих бакенах находит отдых гордая вольная птица. Садится седой орел на красные округлые «кирпичики» и слушает голос реки, и наблюдает за неторопливой знакомой лодкой, угадывая фигуру и повадки Нажметдина. Сколько лет они знают друг друга!
…Только в этот раз не узнает седой орел хозяина лодки: почему-то Нажметдин не останавливается у бакенов, и, проплывая посередине реки, смотрит на берег, ходит по лодке из стороны в сторону и отчаянно машет руками. Случается, лодка встает поперек течения и кажется такой же неуклюжей, как орлята, которые учатся летать. Что бы это могло значить?
Седой орел снижается и ветром пролетает мимо лодки. Теперь он понимает: бакенщик в беде. Даже береговые ласточки покинули свои мирные гнезда и снуют над рекой, по-птичьи сообщая о несчастье. Вот и орел, внезапно набирая высоту, складывает крылья и, словно камень с горы, бросается вниз; через пару секунд он оказывается перед носом лодки, — но, выполнив смелый маневр, пролетает над самой водой. Кажется, так он хочет остановить бедную лодку Нажметдина. Но это не в его силах…
Бакенщик, не ожидавший такого маневра, вздрагивает и решает, что дело совсем худо. Впервые глядя в небеса за целый день, он шепчет:
— Вот так, друг, вот так… Но за верность твою — тысячу раз спасибо.
* * *
Нажметдин быстро понял, в каком скверном положении оказался. Расхаживая по лодке, он повернул ее нос против течения; но это мало что изменило. За несколько секунд в голове его словно прокрутилась кинолента произошедшего. Еще минут десять назад старик не поверил бы в такой поворот дела.
Он спустился на воду, чтобы поставить к бакенам осветители на аккумуляторах. Взял в дорогу только одно весло: было бы непросто грести двумя среди кусков снега и льда. Течение оказалось столь сильным, что Нажметди на унесло у первого же бакена: он попытался ухватиться, но из-под «кирпичика» вырвался бешеный поток; его едва не выбросило из лодки, а весло оказалось далеко в стороне. «Уже весло в руках удержать не можешь!» — проворчал Нажметдин себе под нос. А река между тем взяла лодку в свой плен и понесла прочь от бакена. Когда бедняга опомнился, он был уже в самом сердце стихии. Окинув взглядом лодку, в которой были только пустой мешок и аккумуляторы, Нажметдин сделал вывод: помочь могут только люди на суше. В прибрежных деревнях. Или просто — любители посидеть на речном бережке. Нажметдина эти мысли немного успокоили. С облегчением зажег папиросу. И вдруг вспомнил, что между деревнями километров десять, а то и пятнадцать… А ведь бакены нужно осветить сегодня: с верховьев Инзера должны прийти катера с лесом…
Лодка проплывала мимо бакенов, и последние, словно подтрунивая над неудачником, только усиливали беспокойство. Порой Нажметдину казалось, что, стоит только протянуть руку, как бакены зажгутся, словно волшебные огоньки. Но эта мечта была, наверно, хуже миража в пустыне. Ни единого шанса зажечь огни и зачарованно любоваться ими после! Этот сумасбродный, неистовый поток, будто колючая проволока, разделяет бакенщика и его бакены. Этот поток, словно огромный необъезженный конь, у которого не видать ни хвоста, ни гривы… Этот поток — как безумное чувство бессилия, как отчаяние, подступающее комом к горлу Нажметдина…
Но в это отчаянье ворвалась крылатая надежда — красивый и сильный орел. Орел, появившийся так неожиданно, рассеявший сомнения, вдохнувший жизнь в почти погибшую веру…
В голове Нажметдина теперь стучала одна мысль: бороться. Расхаживая по лодке вперед-назад, поворачивая ее боком к течению, он пытался поскорее покинуть середину реки. Но вода-разбойница крутила лодку, словно юлу, а когда Нажметдин поставил свой «маленький кораблик» поперек течения, вообще его чуть не опрокинула. Старик уже было попрощался с белым светом, но все обошлось, — а сердце не переставало твердить: бакены, бакены…
Если бакены не получат огня, что будет с плотами и катерами? Сам-то он, Нажметдин, авось не погибнет. Спасут, если даже на Агидели окажется. Но кто же принесет огонь этим слепым речным ангелам? Ведь Нажметдин вернется только через два-три дня!
Вот видна необычной формы скала: словно прямо сейчас обрушится в воду. Вот отступают зажавшие реку гигантские камни-обелиски, открывая взору чудесные места водного царства. Простор, широта и… крыши домов на левом берегу! Деревня приближается, словно скачет навстречу лодке! Но с берега нельзя увидеть Нажметдина…
— Уж больно еще вода прибывает, — вздохнул несчастный старик. — Даже деревья не плавают, чтобы ухватиться… Эх, половодье!
Нажметдин надеялся поймать хотя бы какую-нибудь плывущую палку, но подле лодки не нашлось даже щепки величиною с локоть. И все же старый бакенщик не сдавался. «Нет-нет, да и попаду на глаза в деревне», — только подумал он — и заметил, что у каких-то ворот маячат люди.
— Спускайтесь сюда! — закричал он что есть силы. — На по-о-о-мощь!!!
В счастливом ожидании Нажметдин затаил дыхание. А в голову ему полезли дурные мысли. «Спасут сейчас, — думал он, — и посмеются!.. Скажут: вот уж Нажметдина угораздило! И старухе при встрече вспомнят, конечно… мол, старика твоего из реки выловили…».
Но кричал бакенщик впустую. Люди у ворот даже не шелохнулись. Нажметдин еще раз попытался быть услышанным:
— Спаси-и-ите!
Опять двадцать пять. Никто не посмотрел в сторону лодки.
Вдруг Нажметдин нервно зашатался и с досадой сорвал с головы кепку.
— Эх, ты, дурак беспамятный! — ругал он себя, чуть не плача. — Хрипун, а еще кричишь!
В глазах у Нажметдина потемнело. Вода, земля и небо слились в одно серое месиво, закружившись в сумасшедшем танце, и в лодку к старику-бакенщику заглянуло бедовое прошлое.
* * *
Вот уже более четверти века Нажметдин не может громко говорить — какой там кричать. Человек рядом встанет — и то не услышит толком. Ну нет у него голоса, нет… «Спаси-и-ите!». Не поглядит на воду никто у берега. Никто… Так и скрываются вдали дома, пристройки, люди. Да, люди…
Первый, второй, третий… бегут они по бранному полю, а кругом — взрывы да выстрелы. И поднимает их война на воздух, словно черно-красные пушинки.
Разрываются снаряды. Вот что-то взорвалось совсем рядом. Полетел Нажметдин куда-то в облака… А может — в преисподнюю попал.
В том бою очень сильно его контузило.
Сначала голоса совсем не было. Так что тихо говорить — тоже хорошо… Только крик с середины реки никогда, никогда не услышат.
* * *
Целый мир погрузился во тьму. Какая душевная боль, какая злость на себя, на свое бессилие… Нажметдин лежал плашмя, с яростью впившись в лодку зубами и ногтями. Он чувствовал языком смолу, подушечками пальцев — занозы… Наверное, за всю свою долгую жизнь он не знал такой гибельной злобы. Ах, война ты, война! Испепелила молодость — мало того! отняла голос до самой старости. Почему и за что, ты ответь?!
… Где-то совсем близко послышался рассекающий воздух свист. Это седой орел своими могучими крыльями снова отгонял беду от Нажметдина.
— Эй, друг! Какая ты гордая птица… Ничто тебя не сломит, не одолеет… Не одолеет ничего и нас!
Нажметдин осторожно протер глаза, и руки его стали влажными от недавних горячих слез. В этих слезах перемешались отчаянье с молитвой и ненависть к былому врагу, который лишил молодого солдата веселого звонкого голоса. Но тогда мы не отступали назад… И вот сегодня тот раненый мальчишка говорит в старом бакенщике. Он еще сопротивляется, он заставляет думать…
Вторая деревня почти в пятнадцати километрах отсюда. Значит, пока до нее доберешься, стемнеет. И потом… услышать его не услышат, и заметят ли лодку? Неоткуда, Нажметдин, ждать тебе помощи.
Но неужели бакены и вправду останутся без огня?
Никогда!
После того, что вспомнилось Нажметдину, он никак не мог сдаться. Даже если бы его накрепко связали, он бы непременно нашел способ освободиться.
— Первым делом нужно уменьшить скорость лодки! — решил он. — Тогда нечего будет опасаться, что лодка перевернется при повороте против течения.
С этими словами Нажметдин положил в мешок аккумуляторы, прикрепил его к цепи на носу лодки и не спеша погрузил в воду. Наконец-то! Лодка заметно замедлила ход, словно сзади ее принялся держать невидимый силач.
Теперь Нажметдин ходил по лодке взад-вперед, стараясь поставить и удержать ее поперек течения. Старания его не прошли даром: поток потихоньку начал отпускать лодку с центра. Нажметдин проворно перебирался с одного конца лодки на другой и, опуская правую руку в воду, греб ладошкой как мог. И — о чудо! — лодка перестала дрожать, словно арба, выехавшая с пашни на новую дорогу… Бакенщик отнял свое крохотное судно у середины реки!
Нажметдин вытер пот с лица и посмотрел вперед. Совсем скоро он ухватится вон за ту ветлу, которая склонилась к самой воде, и выберется на берег. Быстрым шагом доберется до дома и, захватив новые аккумуляторы, снова сядет в лодку, чтобы зажечь бакены…
Да, катерам и плотам будет Свет!
Бакенщик даже не заметил, как из груди его вырвалась радужная песня спасения…
Хотя дорога на воде без мелей,
Земли дорога ближе и роднее.
Ай-хай-люк…
И, чтобы не нашла сердца кручина,
По водному пути идут мужчины.
Ай-хай-люк…
Конечно, эту странную песню никому нельзя было услышать, — но, каждый раз, когда Нажметдин садился в свою маленькую лодку, каждый раз, когда подплывал к бакенам, в душе его рождались эти тихие слова, эта мелодия мыслей. Если бы кто-то и услышал такую песню, все равно бы ничего не понял. Ее бы понял, наверное, только седой горный орел…
Плавно взмахивая крыльями, он поднимается так высоко, как не под силу подняться ни чайкам, ни ласточкам. Он затмевает своим величием тучи щебечущих птичек и летит, летит, летит меж облаков, словно громкий, красивый голос молодого солдата. И кажется Нажметдину, что голос его гремит на всю округу, что и грозные скалы, и весенние берега, и своенравная река слышат его крылатую песню.
Звезда Габдрашита
Я проснулся, едва на лицо попали первые лучи летнего солнца. Слегка прикрыл глаза рукой и, полежав еще секунд пять, поднялся. Сам себе удивился: в общежитии меня добудиться не могли, одеяло стягивали, — да и после подъема, пока в коридор не выходил, не умывался холодной водой, сонным оставался, а здесь… Никто не сказал «вставай», никто не стащил одеяла — хватило одного осторожного прикосновения лучей, одной улыбки зари, родившейся за Нарышем — и сон словно рукой сняло. И ни в столовую, ни на занятия бежать не нужно… а бодрый — как никогда. Нет, это даже не обыкновенное пробуждение — это словно рождение заново! Хватит грызть гранит науки, уткнувшись в книгу — тяжелая сессия далеко позади!
Смотрю по сторонам — и кажется, что только этим утром увидел тихую красоту родной земли. Хоть и знал я игры в лугах у Кызылги, да детство мое пришлось на нелегкие для страны годы, и, быть может, потому я толком не замечал всей этой божьей благодати. А сегодня…
Сегодня, на сеновале, где я спал, чувствую щекотливый запах свежескошенной травы; я любуюсь дальними полянами, похожими на сказочные паласы с радужно-замысловатыми узорами; даже в полыни среди цветов, в крапиве, буйно растущей у плетня, в репейнике и осоке я нахожу необычную прелесть… Грех тут — не дать волю чувствам! Жаль, нет рядом никого из друзей, с кем бы мог поделиться своим негаданным счастьем…
Поскорее нужно умыться на Кызылге!
Спешно спустившись с сеновала, иду домой за полотенцем.
— Думала, что поспишь подольше на утренней прохладе, ходила тихонько, когда корову доила. Почему же так рано встал, сын мой? — спросила мать, суетясь у печи.
Но оказалось, не я один поднялся ни свет ни заря: сосед Сабирьян уже запряг лошадь и поехал куда-то; на другом конце улицы кто-то прогревает трактор; старухи выгоняют телят; женщины и девушки, гремя ведрами, тоже идут на реку за водой. Навстречу последним попался по пояс голый парень, который, видно, показался им смешным (а иначе, зачем останавливаться и удивленно пожимать плечами?).
А я встретил Закию-апай…
— Здравствуй, Халик, — сказала она негромко. — Я к вам иду.
Я покраснел, как рак, и, только скрывшись в переулке Кашифы-апай, более-менее успокоился.
Этот переулок знает меня чуть ли не с того момента, как я научился ходить.
Впрочем, не меня одного… То были времена, когда деревенские женщины уходили на поле с рассветом и возвращались домой с поздними звездами. И мальчишки всей нашей улицы гурьбой ходили с ведрами к реке. Наполнив ведра до краев, мы цепочкой, словно гусята, плелись назад. У нас был свой договор: до переулка Кашифы-апай не останавливаться. От Кызылги до него — шагов триста-четыреста. Но, пока с ведрами наперевес доберешься — измотаешься. Ведра давят на плечи, начинают касаться земли; в глазах темнеет от усталости, и белый свет становится не мил. Идешь так — и со злости думаешь: «Почему эти женщины, называемые матерями, заставляют нас таскать эту воду? Разве не могут они не пропадать с утра до ночи на своем поле?». Грешным делом скажешь какой-нибудь женщине подобное — тебе прямо ответят: «Если будет на то воля Аллаха, придут с войны живыми и здоровыми ваши отцы и дяди — будете только на лугу играть. Но пока они не пришли, нужно терпеть, сколько силы хватит». Так ты и ходишь, и ходишь по воду… Бывает, хочется, громыхая, поставить ведра на землю и бежать до самого дома, не оборачиваясь. Только все это остается в мечтах, только мальчишки продолжают уныло плестись друг за дружкой. И ты шевелишься, стараясь не отставать. Так, совершенно обессилившие, мы поднимаемся к переулку Кашифы-апай.
Вот тут-то мы на миг разлучаемся с нашими железными мучителями и валимся на траву! Забываются и ноющая боль в плечах, и напряженное подергивание жил на тоненькой мальчишеской шее. Каждый из нас чувствует себя человеком, совершившим если не подвиг, то какое-то очень большое дело. Через минуты две-три нам становится неловко отдыхать на полпути, и наш «караван» вновь направляется к цели, поблагодарив заветный переулок, словно оазис в пустыне…
Я, наверное, уже никогда не смогу его забыть. И не только потому, что был он «перевалочной базой». Когда-то здесь одним сгоряча сказанным словом незаслуженно обидел я молодую женщину.
* * *
Закия-апай — ей в то время было лет семнадцать-восемнадцать — жила в этом переулке. Из открытого окна она то и дело подшучивала над нашей чирикающей гурьбой: мол, какие расторопные снохи — и все с одной улицы.
А нас, молодых птенцов бедовых годин, становилось все меньше и меньше: одни вышли на работу, другие отправились учиться в ФЗО.
И Закия-апай перестала почему-то провожать нас своими шутками. Лицо ее околдовала печаль. Бывало, она с работы не шла — порхала, как бабочка; теперь же добиралась до дома медленными усталыми шагами.
Тем временем в деревню вернулись первые фронтовики. И немало — целых пять на нашей улице. Правда, Нурислам-агай ходил на костылях, а у Валляметдин-агая не было руки… Только на груди их блестели ордена и медали, только лица их были светом озаренные, а в глазах таился огонек скорой победы. Женщины, дети, старики — все были рады этому возвращению. Даже моя бабушка, у которой еще не вернулся ни один из троих сыновей…
Но на лице Закии-апай не было улыбки. И я не понимал, отчего она так обижена на целый свет. Все мальчишки говорили об этом между собой, а спросить не решались.
Однажды придумали по дороге к реке пройти возле ее окон, оживленно беседуя: может, у нее настроение появится, разговорится. Смотрим на нее — и невзначай шаг замедляем: вот-вот выглянет из окна и начнет шутливый разговор…
А она знай себе, только проворчала: «Расчирикались! Неужели нельзя пройти спокойно?» — и окно захлопнула.
Но на обратном пути мы встретили Закию-апай уже на улице. Сидим, отдыхаем — и не разговариваем.
— Чего воды в рот набрали? — как ни в чем не бывало, спрашивает Закия-апай.
— Вы же сами просили не чирикать.
— Да уж, я скажу порой…
Мы только и ждали от нее этих слов. Поднялись, окружили, шумим:
— Закия-апай, почему ходите такая грустная?
— В каких классах вы нынче будете преподавать?
— Отчего не радуетесь возвращению солдат?
— Ой, как много хотите знать! — рассмеялась Закия-апай и принялась шутить над нами. А когда мы потеряли бдительность, увернувшись, выскочила из нашего круга. — Ну-ка, Халик, — обратилась она ко мне, — дай я тебе помогу донести твою воду. — С этими словами Закия-апай положила на плечи мое коромысло, подцепила ведра и легко пошла вперед.
Да нет, не пошла — поплыла! Видели бы вы: ступает так плавно — ведра даже не шелохнутся. Стройная, словно тростиночка на Кызылге, что едва заметно колышется на ветру. Руки полные, заботливые; перекинутая через коромысло черная коса до колен достает…
Бегу за ней, стараясь не отстать, и про себя удивляюсь, какая же все-таки странная эта Закия-апай: то хмурится как весеннее небо, то светится, как солнце, вдруг выскочившее из-за туч. Многие люди сердятся — долго ходят, ни с кем не разговаривая. А Закия-апай угрюма, сердита, а минут через пять — добротой искрится. Может, это от возраста зависит? Молодость вспыльчива, да отходчива, долго зла не держит… Идешь вот так, рассуждаешь — и хочется сказать: «Закия-апай, вы — человек добрейшей души! Только грустить вам не к лицу. Будьте всегда такой же открытой, как сейчас!»…
Разговаривая мысленно с Закией-апай, я впервые [тогда] не заметил, как дошел с реки до дома.
* * *
Не знаю, как давно Закия-апай не была у нас. Она рассматривала дом внимательно, словно удивляясь каким-то новым деревенским жителям. Мать моя, конечно, как и все на поле, работала от рассвета до заката, — но в доме у нас всегда был образцовый порядок: пол выскоблен до желтизны и вымыт; медный самовар начищен песком и скисшим молоком; на больших нарах , застеленных паласом, аккуратно разложены подушки с чистыми наволочками; даже жестяная лампа сверкает, как сокровище.
— Когда твоя мама все успевает делать? — с восхищением заметила Закия-апай, покружилась возле шкафа и села на кровать.
— Халик, а где вы храните письма отца?
— Должны быть наверху шкафа... А зачем они вам?
— Пожалуйста… давай посмотрим.
Мать не велела показывать письма чужим, но как не показать их Закие-апай! Смотришь на нее — такая родная… Встав на стул, я достал сверху драгоценную стопку и положил ее на стол. Закия-апай потянулась к письмам несмело, глядя на них так, как глядит порою человек на благоухающий цветок.
Сколько их, заветных «треуголок» с запада!..
Я толком еще не мог разобрать буквы, не мог хорошо читать, но каждое письмо, словно доброго друга, «знал в лицо». Только взгляну на весточку с фронта — и вспоминаю, какие хранит она строки, что мать читала вслух; и будто вижу, в какие дни было написано послание — перед атакой, в обороне ли…
Мать приходила с поля и, бывало, говорила, что нет силы и волосок порвать, — но часто садилась с разложенными письмами под слабый свет лампы и разговаривала с ними как с людьми. Читала, пока не засыпала. И я, лежа на коленях у матери, через фронтовые строчки слышал размеренный голос отца. Звучал этот голос сладко и волшебно, и был он моей колыбельной...
Первые письма Закия-апай прочитала от корки до корки. Однако последующие принялась разглядывать поверхностно. Я даже начал немного сер дится. Но не успел я обиженно насупиться, как Закия-апай спросила:
— Халик, а дядя твой, Габдрашит… разве не шлет вам писем?
— Конечно, шлет! Его письма — целая книга! И фотография есть… Принести?
— Принеси, Халик, если можешь. Только не нужно, чтобы про это знала бабушка Бибиасма.
…— Габдрашит! — вздохнула Закия-апай, глядя на фотографию моего дяди. Она читала письма, и лицо ее с каждой минутой становилось светлее. Казалось, какие-то неведомые мне лучи счастья и надежды рождались в глубине ее души…
Такой радостной я видел ее впервые.
— Габдрашит! — опять зашептала она и прижала фотографию к груди. — Почему же, почему же ты не прислал ее мне?
Опомнившись, Закия-апай закрыла передо мной лицо руками, словно ребенок, который провинился и теперь сгорает со стыда.
— Не удивляйся, Халик… — наконец сказала она. — Мы с твоим дядей были друзьями.
Сказала — и выбежала прочь. Чуть погодя, я бросился за ней, — и долго еще стоял и смотрел вослед той, что скрылась в переулке.
И размышлял над случившимся.
«Не удивляйся» — сказала она… Почему я должен удивляться? Я ведь понял уже, что к чему. Закия-апай! Солнечная, красивая, ты была подругой моего дяди… Ты и раньше казалась мне родною, а теперь стала еще родней.
* * *
После этого случая мы с Закией-апай заметно сблизились. При каждой встрече она по-дружески хлопала меня по спине и рассказывала про дядю. Я узнал, что внешне похож на него, — только характером мы не совпали: дядя, оказывается, человек порывистый, всем на свете интересуется и начатое дело доводит до конца; а я — озорной мальчишка с ленцой…
Так бы мы с Закией-апай и дружили, да дело испортил невесть откуда взявшийся солдат.
Он был без руки, среднего роста, стройный, с ясными блестящими глазами. По этим глазам, наверное, и можно было только узнать, что он еще молод. Потому как лицо, испещренное шрамами, превращало его в старика.
Это был боевой товарищ Габдрашита-агая.
Впервые войдя в наш дом, он что-то долго рассказывал матери и бабушке.
Но меня попросили уйти во двор, и я не слышал ни единого слова.
А этот солдат стал появляться в нашей деревне все чаще. Но к нам он не заходил. Пронеслась весть, что он решил пожить у Закии-апай. Я ни за что не поверил бы в это, если бы не увидел своими глазами, как он пару раз выходил из ее дома. «Не может быть! — негодовал я. — Закия-апай так не сделает, она чиста, как утренняя роса…».
Но правда осталась правдой.
А душа ребенка — светлая, большая и открытая — потемнела от обиды и закрылась вмиг на тысячи замков. Однорукого солдата по имени Рамазан я невзлюбил, а Закию-апай — возненавидел. Покажется былая подруга моего дяди на дороге — стараюсь ее обойти; поздоровается — не отвечаю; попытается похлопать по спине — бегу куда глаза глядят.
Однажды, когда я, как обычно, возвращался домой с водой, она решила снова мне помочь. Я же, отстранившись от нее, посмотрел ей, ошеломленной, прямо в глаза.
— Не утруждайся, иди, ухаживай за своим одноруким, — зло сказал я и пошел с водой дальше.
— Халик… — услышал я ее стонущий голос. Но — не обернулся.
С той поры стал я ходить за водой не по переулку, а мимо гумна Кашифы-апай. Иду, а сам думаю: вот встретится мне этот Рамазан — и ему что-нибудь выскажу. Не побоюсь, свое получит…
Настал подходящий момент. Как-то раз заявился этот однорукий к нам. Поздоровался. Не обращая внимание на то, что я от него отвернулся, прошел в переднюю, положил там какой-то узелок и просит меня:
— Братишка, подойди сюда.
Но я стою — насупился, надулся.
— Покажу кое-что, подойди же, — настаивает однорукий.
А я и в ус не дую. Решил себе стоять и ждать, пока он не уйдет.
— Гордый народ! — внезапно громко сказал Рамазан. — Привез им память о близком человеке, а они…
Я вздрогнул и повернулся к нему. Даже не заметил, как кинулся ему на шею. Чуть ли не кричу:
— Что случилось, агай?
А он гладит меня по голове единственной рукой; и так, оказывается, приятно, когда твоей головы касается сильный, взрослый человек…
— Вот что я привез, братишка, — сказал однорукий и положил мне на руку маленькую алую звездочку.
Реликвия! Удивительная звезда. Кажется: горит, как пламя, а в центре этого огня — золотистые серп и молот…
Это была звездочка с фуражки Габдрашита-агая. Однорукий солдат, оказывается, был самым близким ему другом. Вместе уходили на фронт, вместе воевали на западе. На двоих делили беды и победы. И самая большая Беда тоже на двоих досталась: у одного отняла руку, у другого — жизнь.
* * *
В апреле сорок пятого дивизия, в которой воевали друзья, освобождала западные земли. После боя в одной деревеньке Габдрашит и Рамазан решили отдохнуть в березняке и направили туда своих коней.
Изнуренные лошади, фыркая, поднимались вдоль тропинки на возвышенность. Уставшие от дальней дороги всадники не хотели говорить и ехали в тишине. Слева они увидели распаханное снарядами и бомбами поле, совсем близко — сверкающую реку, а поодаль от нее — синеглазые вершины гор.
— Смотри-ка, Рамазан! — заговорил Габдрашит. — Река да горы — прямо как у нас на Урале. Как будто Агидель и Нарыш… Даже вот эти березы с набухающими почками схожи с нашими — только наши гораздо стройнее. Уральская береза, подобно скромной девушке, стоит, белоствольная, да тихонько листьями на ветру играет. А вон то поле — точь-в-точь как наше Сосновое… Эх, и у нас ведь сейчас весна, и Сосновое поле, наверное, также лежит и дымится. Самое время засевать в поте лица… Мать и Закия — как же они управятся?
С этими словами замолчал солдат. Погрузился в глубокую думу. Но дума эта рвалась на волю, словно мятежный поток, и после очередного долгого молчания Габдрашит опять обратился к другу.
— Рамазан, к севу уже не приехали… К уборке, пожалуй, дома будем, верно? Как же здорово встречать летнюю зарю в поле, где всюду запах завтрашнего хлеба! Ну что за чудо зрелые колосья!
…Так мечтал Габдрашит — но не знал Габдрашит, что не увидит это чудо уже никогда.
То была пора, когда последний снег растаял в одно мгновение, потому что солнце над головой палило нещадно; то было время, когда многие торопливые почки открыли свои прелестные глазки, словно сказочные красавицы, разбуженные поцелуем весенних лучей. Наконец, это был месяц, в котором, сотрясая землю, вновь родился могучий гром.
Первый гром!
Есть люди, которые, услышав его суровый бас, падают и катаются по обновленной весенней земле. Габдрашит и Рамазан были из таких. При первых грозных раскатах они соскочили с коней и растянулись на траве. Молодым мужчинам, утомленным дорогами войны, есть ли большее счастье, чем вот так благодарить давшую им силу исходящую паром землю-матушку?
В той траве они с Габдрашитом подорвались на мине.
* * *
Я слушал — и все, что рассказывал Рамазан-агай, казалось мне сном. Закрываю глаза и вижу: вот мой дядя, поднявший к небу глаза цвета черемухи, подставивший широкое лицо апрельскому солнцу; вот его сивый жеребец; вот кавалеристы с саблями и автоматами…
Что-то обожгло мне висок, и я словно проснулся. Посмотрел на Рамазан-агая: он говорил и рыдал. В тот час для меня стала мягкой его худая рука, лицо в сплошных шрамах показалось необычайно родным; и я нашел, что такие, как у него, большие карие глаза, бывают только у людей великодушных и сильных.
— Надо жить, братишка, — шептал он сквозь слезы, — жить за себя и за тех, кто пал… за твоих отца и дядю… Жить, чтобы сделать счастливыми женщин, которые боролись в тылу, которые ждали…
Я глядел на Рамазан-агая — и не хотел отпускать его. А уходил он далеко-далеко, в Карламанбаш.
— Агай, не уходите, ночуйте у нас, — сказал я несмело.
— Нельзя, — просто ответил он. — Нужно возвращаться, братишка. И у меня есть мать. И она одинока.
* * *
Рамазан-агай вернулся в нашу деревню довольно скоро. Чтобы окутать печалью старый переулок. Чтобы оставить нас без родной души. Чтобы забрать с собою Закию-апай.
Конечно, я понимал, что жизнь меняется и что красивой девушке негоже быть одной, — и все же долгое время не покидала меня тоска… Много воды утекло, и деревня привыкла жить без Закии-апай. Лишь изредка до нас долетали вести, что на чужой стороне живет она несладко. Потом, вероятно, все более-менее утряслось, — и вот теперь Закия-апай каждый год приезжает к нам с детьми.
— Никак не наговоримся! — частенько повторяет моя мать. — Еще бы: полюбили родных друг другу братьев, которым не дано было вернуться. Только одна, вступив в брак с любимым, немного пожила с ним, а вторая только и успела полюбить.
А я слушаю эти слова и думаю, зачем же в детстве так обидел Закию-апай в том переулке… Не разобрался что к чему, погорячился. И теперь мне стыдно попадаться ей на глаза. Лишь издали могу я смотреть на нее — такую же стройную, с такими же добрыми глазами, как и много лет назад. Смотришь — и кажется, будто жила она не в переулке Кашифы-апай, а здесь, в нашем доме…
А она приходит к нам, зла не помнит. Гуляет в саду, который посадил дядя, листает книги, которые он читал, любуется его фотографиями, смотрит письма с войны…
Наверное, она и сегодня заходила к нам, чтобы вспомнить своего Габдрашита. Она сама — как та печальная и яркая, удивительная звезда, которую мне подарил его однорукий друг.
Голубое копытце
Полжизни проработавшему лесником,
погибшему в лесу Рауил-агаю посвящаю
Ветер с поля не прекратился, даже когда сани въехали в лес. Нет, насквозь он уже не пронизывал, — но отчаянно хватался за воротник и рукава старенькой шубы.
— Ну и выдался денек... — Биккужа провел по лицу теплыми ладонями и, потерев слегка замерзшие уши, еще сильнее нахлобучил шапку, взял вожжи и облокотился о лежанку. Ехал он тихо, и с таинственной грустью встречал его дремучий лес с единственной, разбитой непогодою дорогой.
Деревья здесь растут так тесно, что закрывают небо своим неосвященным куполом. Временами ветер одолевает эту заоблачную постройку, и тогда она неспешно и долго покачивается. Когда же сучья на стволах теряют листья, в лесной храм, словно украдкой, заглядывают белобрысые облака, и дорога, всегда похожая на ночь, начинает блестеть, как стекло черно-белой мозаики. Вот и сейчас деревья без листьев, — только облака почему-то с темными кудрями, и дорога блестящей не кажется...
— Что это за год такой? — проворчал Биккужа. — Декабрь уже — а снега все нет и нет! Хоть бы крупица выпала...
Но не выпадает крупица. Так и едет Биккужа, пристально всматриваясь в дорогу. Изредка поглядывает вверх да просит небо землю согреть.
— Эх вы, тучи бесплодные...
Биккужа закашлял, и на глазах его показались слезы. Внезапный порыв ветра словно хлестнул по лицу кнутом.
— Того гляди — ураган! Заткнуть бы его — совсем распоясался...
А ветер слушает да играется с желтыми листьями: поднимает их ввысь, бросает на дорогу — и снова подхватывает...
Вдруг рыжая кобыла Биккужи зафыркала и замедлила шаг. Стало слышно, как размеренно застучали копыта по мерзлой земле. Это пошла дорога поопаснее: скользит по ней Рыжуха — оттого и осторожнее стала. Сама выбирает, куда ступить лучше, — а Биккужа вожжи не дергает, чутье кобылы знает.
Однако, ближе к лесному подъему, ему показалось, что Рыжуха совсем устала.
— Ну что с тобой, родная? Что ж ты так?
Схватившись покрепче за вожжи, Биккужа свистнул на весь лес. Лошадь мигом прибавила ход.
— Да, есть еще силы... Ты, Рыжуха моя, все-таки шустрая! Шустрая!
Рыжая кобыла не стара,
Тихо не пришла ходить пора!
Рыжая кобыла — славная,
Мне она подруга давняя...
Нет, не скисла Рыжуха! Держится. Конечно, измучилась за день изрядно; вдобавок этот ветер дурной...
Шестой день он тут разбойничает. Заодно с гололедом. Если не враг своему здоровью — лежи в такую погодку на печи!
Только вот не полежишь особо, если ты — лесник. Зимой и летом с утра до ночи на посту. Снег и дождь, холод и зной — все тебе, страж леса. И лошади твоей тоже достается. Теплый хлев ей будет только к закату. Бедняжка, выдохлась она за шесть этих суток...
...В первый из этих бедовых дней Рыжуха, как обычно, с хрустом жевал сено в прохладной темноте хлева. На лубяную крышу падали капельки предрассветного дождя — сначала тихонько, почти незаметно, потом — все громче, все отчаяннее. Рыжуха поежилась; она чувствовала, что неспроста идет такой надрывный ливень в начале декабря.
На заре резко похолодало, и, когда Биккужа вывел кобылу на улицу, продрогшая земля уже была во власти тонкого, но опасного льда. Скользя по дороге, Рыжуха и ее хозяин добрались до дома в конце деревни, где кобыле подковали копыта. Теперь ноги лошади не скользили по ледяной глади, и Биккужа, оседлав ее, поехал к себе. Во дворе он запряг лошадь в сани и отправился в лес. Рыжуха даже не чувствовала груза, ей тогда было на удивление легко, и бежала она резво и задорно.
Но вот она вздрогнула: где-то впереди прозвучал выстрел...
Привстав, Биккужа хлестнул кнутом, и лошадь понеслась по бездорожью. Через какое-то время Рыжуха наткнулась на кого-то большого и темно-рыжего. Этот кто-то порывисто дергался, но, когда подбежал Биккужа, уже притих. Лесник, прощаясь, слегка погладил его — и в тот же миг взлетел на сани.
— Олень... Остались мать и детеныш... Мы должны успеть... Лети, Рыжуха, лети!
С того дня и не стало Рыжухе покоя. Мчались и мчались они с Биккужой по лесу и полю. На обратной дороге у кобылы дрожали суставы, а в деревне не было силы даже стоять. Объезжать природную зону стали не только днем, но и ночью. Порою с несчастной кобылы сходило семь потов, а ненавистный ветер продувал ее как только мог... За эти шесть дней Рыжуха то ли впрямь похудела, то ли выглядеть стала настолько жалко. И все же она находила силы продолжать путь, Биккужу не подводила. «Шустрая»...
...И вот опять они в дороге. В царстве леса, ветра и льда. И верит Биккужа, что дотерпит его верная лошадка...
— Ты только не бунтуй, Рыжуха, все-равно оглобли не сломаешь. Мы должны, понимаешь? Должны...
Постепенно замедлив ход, кобыла перешла на шаг, и снова послышался гул полусонных деревьев. Этот гул вызывал неведомую тревогу, и Биккужа нахмурился, как серые тучи лесного купола. Его слегка продолговатое, худощавое лицо осунулось, на покрасневшие глаза легли бледные тени усталости и, растянувшись боком на санях, он уткнулся головой в тепло под лежанкой.
Гул стих. Острые мысли перестали колоть его душу и голову, и что-то внутри дрогнуло и принялось таять. Сердце у Биккужи больное, волноваться ему нельзя, — но как же тут не волноваться? Погода ни зима ни осень, кобыла устает, браконьеры рядом... Сам он, Биккужа, виноват, что самца убили. Знал, что в такой гололед звери для охотников — легкая мишень. Особенно олени. Злодеи только этого и ждут...
Хотел он их опередить в тот день, да не вышло. И поймать душегубов не смог. Так и болит у Биккужи сердце, так и ноет. Кажется, горячие угли грудь обжигают. А под лежанкой как-то легче становится, затухают они...
Поднявшись, Биккужа достал из кармана кисет. Сев спиной к ветру, завернул табаку. Чиркнул, высекая искры. Но головка спички отлетела. Биккужа потянулся за новой... и в этот миг лес вздрогнул от выстрела.
Бросившись к вожжам, Биккужа ударил кобылу:
— Лети, Рыжуха, лети!
Мотнув головой, Рыжуха резко взяла разбег.
— Опоздаем ведь... Лети, родная!
...Она во всю прыть бежала на звук ружья, словно не ведая страха и трудной дороги. Только на поляне посреди леса чего-то испугалась и свернула налево.
— Ну чего, чего ты боишься? Пойдем, Рыжуха...
На поляне, вытянув ноги и шею, и положив голову на лед, лежало знакомое кобыле животное. Оно встречалось ей среди осоки, на болотах и у ручьев, порою даже перебегало дорогу. Случалось, Рыжуха наблюдала, как это животное грызло древесную кору и лизало соль — лакомство, которое оставлял Биккужа лесным жителям...
Но теперь это удивительно милое, небольшое существо нуждалось не в лакомстве, а в помощи. Казалось, в круглых темных глазах его блестели слезы; острые ушки едва шевелились, стройные хрупкие ножки подрагивали от боли и холода. А какие у него были копытца! Чудесные. Махонькие. И белые — и будто лазоревые...
Это нежное создание напомнило Рыжухе прошлогоднего жеребенка, и, не выдержав, она заржала.
Биккужа осторожно приблизился к олененку.
— Взялись уже за детенышей, сволочи... А мать тебя, наверное, звала —Голубое копытце... Эх, бедный ты, бедненький!..
Браконьер попал олененку в заднюю правую ножку. Теряя кровь, малыш слабел и даже не замечал человека. Биккужа положил его в сани, прикрыл рогожей и достал ружье.
В этот момент в десяти шагах от него появился олень. Самец, который, вероятно, отводил охотников от матери с детенышем. Он скользил по дороге и оттого никак не мог бежать скорее.
— Теперь негодяи будут подбираться к нему сзади... — решил Биккужа и принялся ждать.
Не прошло и двух минут, как появился браконьер. Не замечая ничего вокруг, он полетел на всех парах чуть ли ни к Биккуже, но поскользнулся и упал.
— Ах ты, бандит!
Заложив браконьеру руки за спину, Биккужа приподнял его за шиворот лицом к себе.
— Где бумага?!
— Какая бумага?
— Разрешение на отстрел!
— Там... — кивнул охотник. Биккужа сунул руку в карман его куртки. Никакого документа. Только свежие, шуршащие деньги.
— Где, спрашиваю, бумага?!
— Мало, что ли? — незнакомец слегка наклонился на бок. — Если мало — добавлю.
— За кого ты меня принимаешь? — Биккужа повел браконьера к поляне. — Давай, шагай вперед!
— Постой, постой... — охотник подмигнул Биккуже, словно это был какой-то его сообщник. — Знаю я, знаю... лесник ты. Потому и предлагаю... Бери, не будь дураком! Жалко тебе, что ли, оленя в лесу?
Биккужа остановился и прошептал браконьеру в самое ухо:
— Хочешь меня купить?.. Так знай: я безмерно богат. Мое сокровище — этот лес. Каждое деревце, каждая зверушка... паутинка каждая... Вот мое богатство! И тот, кто посягает на него, навеки — мой лютый враг!
В этот момент где-то очень близко затрещали ветки. Биккужа посмотрел туда, откуда был шум. Среди озябших деревьев стоял олень. Чтобы разглядеть его получше, лесник немного наклонился.
— Не бойся. Иди к своему малышу...
Вдруг Биккужа испытал острую, безумную боль в правой руке. Она хрустнула, как надломленный сук, — и браконьер пустился прочь со всех ног.
— Не уйдешь! За все получишь! — крикнул Биккужа, прищурив глаза, и бросился в погоню.
Не чувствуя боли, не помня себя, бежал лесник. Ветки, которые он задевал, ломались с треском; гнилые пни, попадавшие под ноги, разлетались в щепки. Упавшие деревья он перепрыгивал, как быстрая косуля; ухабы перелетал, как дерзкая стрела. Пот с Биккужи катился градом. Тело горело; дыхание было сбито. На бегу он сбросил шубу — стало заметно легче дышать и двигаться.
Есть еще силы, есть!..
Тихо не пришла ходить пора...
Все вокруг мелькало, как на карусели. Деревья бежали навстречу Биккуже, цеплялись руками-ветками за пиджак; наконец, сорвали шапку. Они царапали лицо, беспощадно хлестали по телу заодно с неугомонным ветром. Но, чем больше приближался лесник к беглецу, чем больше переполняла его душу злоба, тем больше становилось сил в ногах и воздуха в груди.
Лесник и сам не заметил, как оказался на уже знакомой поляне. Здесь ему не могли помешать ни ветки, ни пеньки. Валенки Биккужи не боялись льда, и теперь он настигал браконьера широкими шагами. Уже стал слышен топот ног негодяя, даже его прерывистое дыхание...
На середине поляны их отделяли друг от друга какие-то четыре метра.
Охотник бежал, пытаясь увильнуть вправо — поближе к чаще. Однако подошвы его обуви скользили, и оттого он не мог легко повернуться к лесу. А Биккужа пошел на перехват. Замедлив бег, он вытащил ружье и немного присел. Противник разгадал его маневр, кинулся навстречу, но, пытаясь развернуться, не удержал равновесия и напоролся на ружье. Лесник свалил его одним ударом.
— Злодей! — Биккужа связал браконьеру руки. — Ничего, на этот раз не вырвешься, — и он толкнул пойманного в сторону Рыжухи. Кобыла звонко заржала, и Биккужа вдруг вспомнил о раненом олененке.
— Скорее нужно привести его в деревню...
Рыжуха не унималась. Ее жалостливый, переливающийся, как серебристый ручей, голос разлетелся по всему лесу. Биккуже показалось, что он стал свидетелем чуда: скрипка, курай, журавлиная песня — все смешалось в голосе Рыжухи. Никогда не слышал лесник ничего подобного...
Между тем, браконьер устал, и попытался присесть на лед в нескольких шагах от лошади, — но Биккужа потащил его волоком. Наконец, добравшись до саней, лесник протянул к олененку руки.
— Жив... жив еще, Голубое копытце...
Немного помяв сено, Биккужа затолкал охотника в сани и обвязал арканом. Но негодяй, несмотря на это, обеими ногами пнул лесника в грудь.
Биккужа рухнул на землю. Ему показалось, что сердце остановилось. Приложив руку к груди, он почувствовал бешеный стук внутри.
— Эх, подлая душа... И пойман ведь уже, а дрянные дела не бросаешь! — прохрипел он, встав на колени.
Лекарство, с которым Биккужа не расставался, осталось в кармане сброшенной шубы. Вспомнив это, он поспешил во что бы то ни стало забраться на сани. — Голубое ты копытце...
Олененок пристально, совсем по-человечьи, посмотрел на лесника. Рыжуха нетерпеливо ударила копытом о землю и снова заржала. Но Биккужа слышал ее голос все слабее. В голове его что-то гудело, и это был то ли набат беды, то ли водопад надежды.
— Да... вай, Ры... жуха, ска... чи в де... ревню... Спа... сай Голу... ко...
Вожжи в руках Биккужи повисли. Он не смог закончить свое последнее слово.
Но Рыжуха все поняла и потащила тяжелые сани к дороге, всегда похожей на ночь.
Переводы Кристины Андриановой.
Яблони Акберды
Акберды устало присел на дубовый кругляк, лежащий у забора с давних пор. Его протез как бы сам собой пристроился на дубовом пеньке, где всегда кололи дрова. Так удобней, когда надо собраться с мыслями. А потревоженные думы продолжают кружиться вокруг одного: она уезжает... Еще час, и...
Целую неделю эта мысль не дает ему покоя. Еще раз представив себе минуту расставания, Акберды с сердцем сбросил руки с протеза, словно именно в нем заключалась причина его расстройства.
— А, чтоб тебе...
Чтобы не замечать понурого вида Акберды, Алиса напоследок занялась стиркой.
Подошла соседка, Гульниса. — Алиса, долго ли хоть ехать?
— Послезавтра ночью буду там. А если на самолет попаду, то завтра.
— И чего ты вдруг поднялась, сколько лет жили ни в чем не нуждалась, а тут вспомнила.
— Легко тебе говорить, — Алиса, не вынимая рук из корыта, снизу вверх сердито глянула на подругу. — Ты здесь жизнь прожила, никогда не расставалась со своими, все рядом, все под боком. А я ведь уже много лет как из дома...
Алиса быстрыми движениями сложила уже отжатое белье в таз. Потом долила горячей воды из бака и снова склонилась над корытом.
— Ты же знаешь, не спешу, старики торопят.
Высказав все это, она уже не отрывалась от работы, предоставив подруге самой оценить причины ее спешки. Откровенно же говоря, не хотелось больше встречаться с испытующим взглядом Гульнисы.
После смерти родителей она воспитывалась у дедушки с бабушкой и считала их вдвойне родными. А теперь вот живет вдалеке от них. Да, подумать страшно... столько лет не виделись...
Недавно старики среди прочих деревенских новостей сообщили ей и такую, которая заставила вдруг забиться сердце. «А еще вернулся Петро Гончар», — было написано в письме. И Алиса почувствовала, как в душе поднялось давно забытое или просто приглушенное на многие годы. Она стыдилась волнения, вызванного несколькими строчками письма, гнала его, напоминала себе о возрасте и семье, но ничего не могла поделать: образ Петра преследовал ее теперь.
И память то и дело возвращала ее в юность.
... Оставляя чуть приметный след росном лугу, к речке спускается совсем молодая девушка. Ее косы покачиваются в такт синим ведрам на коромысле. Купающиеся в утреннем солнце белые хаты дружески подмигивают ей сверкающими оконцами — зеркалами. Солнце словно провожает ее до дома мельника, приютившегося под высокими вербами. Рядом — небольшая запруда: вода неумолчно и радостно повторяет все новости округи. Со стороны кажется, что девушка внимательно прислушивается к говору воды, падающей на колесо, так неспешны и спокойны ее движения. Но вот она украдкой оглядывается в сторону тропки, и становится ясно, что девушка медлит в ожидании. Наполнив ведра, она рассеянно всполаскивает ноги в воде и медленно взбирается на крутояр.
Поднявшись от берега, почти сталкивается с босоногим парнем, ведущим в поводу коня, и хочет сойти с тропки. Не удается, паренек касается коромысла.
— Олеся!
Несколько минут они стоят не осмеливаясь поднять глаза друг на друга и боясь неосторожным словом или движением привлечь чье-нибудь внимание: люди всегда все видят и знают. Наконец, Петро бормочет, что надо напоить Гнедка, и просит у девушки ведро. Лошадь пьет долго и жадно, а Петро и Олеся в это время стоят молча: им так хорошо, что и слов не надо. Гнедко довольно отфыркивается, а в голубых глазах девушки вспыхивают озорные искорки. Петро передает повод Олесе, а сам, подхватив ведра, бежит к плотине.
Вместе они идут в сторону хат, парень провожает ее почти до мельникова дома, а потом молча отстает с Гнедком — девушка чувствует его взгляд почти до самого села. Так повторяется каждый день...
Когда началась война и к селу подходили фашисты, Петро отходил с отступавшими частями Красной Армии, да так и не вернулся. Олеся, не успевшая закончить медицинское училище, прибилась к партизанам, выхаживала раненых. Потом освобождала родную деревню, а когда ее госпиталь пошел вслед за частями, на попечение Олесе оставили тяжелораненого солдата. Эвакуировать было нельзя, медсестра, как местная жительница, должна была его выходить.
Со всей искренностью молодости заботилась Олеся о раненом солдате. Он был одинок, беспомощен и выражал свою признательность такими взглядами, что девушка горько переживая утрату Петра, стала постепенно оттаивать, а немного погодя почувствовала не только необходимость — потребность видеть своего пациента здоровым, заботиться о нем. Когда солдат — это был Акберды — окончательно поправился, они решили не расставаться.
На родине мужа Олесю стали звать на башкирский лад — Алисой. В деревне, примостившейся на берегу Белой и подпираемой с двух сторон горами, ее быстро признали за свою. Сказочная природа этих мест да сами люди — доброжелательные, трудолюбивые, очень искренние — стали ей близки и дороги. Начав работать в деревенском медпункте, Олеся еще больше сблизилась с односельчанами.
Однако больше, чем врачеванием, прославилась она в ауле украинской привычкой украшать усадьбу дома зеленью. Несмотря на обилие леса вокруг, сама деревня словно не признавала его — вокруг большинства домов не было не то что кустика, даже сносной изгороди. Шло это от богатства: зачем разводить лес у себя, если он под боком, но Алиса упросила Акберды привезти из города несколько яблоневых саженцев. И вот уже их усадьба убралась в яблоневый цвет, а потом среди ветвей запестрели крупные плоды. Хотя больше всего о деревьях заботилась Алиса, люди называли их «яблони Акберды» — так выделялась его усадьба на первых порах. Глядя на них, стали обзаводиться садами и другие.
Спокойно, без больших перемен и событий текла ее жизнь с Акберды: днем «хлопочет в медпункте, вечером — в саду. Вырастили двух сыновей, отправили учиться в город. Прижилась Алиса в башкирском ауле, вроде и не было никаких душевных ран, затянуло их время.
Оказалось, нет.
«Что же будет? — думала она. — У него наверное теперь семья — дедушка об этом ничего не пишет. И у меня Акберды, сыновья...» Но ведь клятва, клятва, ее надо снять, вроде взяла у человека что-то, обманула его». Мысли незаметно перекинулись на семью, дом, Акберды. Она ведь и привыкла к нему, и полюбила. Что подумает он, как ей оправдаться, объяснить, что та, молодая Олеся, и по сей день живущая в ней, обязана повидать своего Петра. Хотя бы для того, чтобы снять с души груз, нечаянную свою вину.
Спохватившись, Алиса торопливо вытерла руки о передник и, отбросив волосы назад, взглянула на часы...
— Полчаса остается, — беспокойно подумал Акберды, услышав бой настенных часов в доме. — Полчаса. Как не суди, а жену проводить требуется, — незаметно для себя произнес вслух и решительно шевельнул своей негнущейся ногой — ее всегда надо беспокоить первой, чтобы подняться. Поднялся, упрямо отмахнул назад свои седые, словно молоком облитые волосы и, тяжело переставляя протез, пошел по двору — широкоплечий, плотно сбитый, даже грузноватый, что-то окончательно решивший для себя человек. Рывком открыл садовую калитку — Алиса вывешивала выстиранное белье.
…Чай на этот раз пили сосредоточенно, без обычных бесед и прибауток —каждый был занят своими мыслями, каждый в душе чувствовал какое-то неудобство и недоговоренность. Гульниса пыталась было завести общий разговор, но быстро стушевалась.
Акберды снова уселся перед домом, жадно затянулся папиросой, словно ожидая, что будет дальше. Через некоторое время на крыльце показалась Алиса. Голубое платье с короткими рукавами вернуло ей если не девичью, то молодую собранность и стройность. В руках обычная сумка для поездок в город. Акберды, не глядя, принял ее и зашагал к калитке. Его неживая нога на этот раз с видимым усилием отрывалась от земли, загребая головки гусиной травы, которой порос двор. Трудно, очень трудно сделать эти шаги до Белой. Алиса нерешительно притянула мужа к себе.
— Не ходи, Гульниса проводит...
Гульниса, будто ждавшая этих слов, показалась в воротах дома. Вдвоем они стали спускаться к причалу, Акберды молча повернул к дому и снова устроился на дубовом кругляке. С этого места хорошо виден обрывистый берег, где пристает пароход, видны и яблони выращенного ими сада. Смахнув пот из-под околыша фуражки, Акберды стал внимательно смотреть на берег, где две неторопливые фигурки присоединились к большой группе отъезжающих. Подошел пароход. Через несколько минут раздался его призывной гудок, и Акберды, снова почувствовав страшную усталость, смежил веки. Очнуться его заставил знакомый голос Гульнисы.
— Акберды, слышишь, где же ты?
— Здесь я, проходи.
— Алиса просила чтоб ты набрал березового сока, да побольше — не забудь...
Акберды словно и не сидел в оцепенении, энергично поднялся, ухватился за яблоневую ветку, высунувшуюся из-за ограды, притянул к лицу. Березовый сок! Значит, она вернется ко дню рождения... Акберды словно выслушивался в то, что ему негромко выговаривала яблоня, неуловимо напоминая своим обликом Алису — тихую, добрую, русоволосую. Каждый год после женитьбы Акберды набирал в лесу березового сока, которым от души потчевал гостей, приходивших на день рождения Алисы. Он не в обиде на Петра — кто знает, как обошлась с ним война, какую судьбу он выбрал после этого пожара. Не в обиде и на Алису: она должна вернуть слово и человеку — нужно оно ему это или нет...
Перевод Виктора Орлова. Тимергали КИЛЬМУХАМЕТОВ |