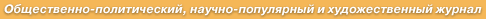СКОВОРОДКА Полвека назад наш дом в Соль-Илецке летом превращался в Караван-сарай. Многочисленные пожилые родственники из Средней Азии, приезжавшие подлечиться на Соленое озеро, занимали все имеющиеся комнаты, а также чердак и веранду, так что домочадцы переселялись в летние надворные постройки. Мы, ребятня, были несказанно рады гостям, охотно выполняя роль гидов, подтаскивая с рынка арбузы.
С приездом родни жизнь семьи поворачивала в новое русло. Мама, вставая с петухами, до ухода на работу умудрялась испечь на завтрак с полсотни блинов. И такие они у нее всегда ажурные, румяные получались. Гости нахваливали, а стряпуха скромно отговаривалась: «Просто у меня сковородка волшебная». Во дворе устанавливался казан, по вечерам устраивались задушевные посиделки с пловом, фронтовыми песнями под аккордеон. Почему именно военный репертуар имел популярность, мы тогда не задумывались, просто пели вместе со взрослыми.
Гости баловали нас лимонадом, а по осени щедро вознаграждали за детский труд. В сентябре из Ташкента, Душанбе, Фрунзе, Чимкента приходили по почте фанерные ящички с фруктами. Мама, помнится, беря в руки душистую желтобокую айву или мешочек с сушеным урюком, плакала и говорила: «Помолимся за здравие Валентины Петровны. Она медсестрой всю войну прошла. А это от дяди Тимофея, его под Москвой контузило, а два брата — Алексей и Василий там же полегли. Их за упокой души помянем». Неумелой рукой мы крестились на икону и получали долгожданные азиатские гостинцы.
С годами гостей-курортников в нашем доме становилось все меньше, а список поминаемых за упокой — все длиннее. Но коробки с фруктами от остававшихся в живых сродников-фронтовиков присылались регулярно. Вкус тех яблок я помню до сих пор, имена же хозяев садов, к сожалению, в детской памяти сохранились весьма отрывочно, без связи, кто кем кому приходится.
Однако семейная летопись понемногу пополнялась фактами из фамильной истории, связанными с Великой Отечественной войной. Самая потрясающая — о моей прабабушке Евдокии, в один день получившей похоронки на троих сыновей и двоих внуков.
Рассказывали, что скорбная весть пришла к Зайцевым в тот момент, когда Евдокия Петровна, подоив корову, готовилась плеснуть в кружки внукам молока. Почтальон сунул ей в руки пачку конвертов, сказал: «Крепись, мамаша!» и по-скорей удалился. Евдокия Петровна как сидела с ведром на низенькой скамеечке, так и рухнула, уткнувшись в бок Буренке. Голодные дети, оттащив бабушку из-под коровы, попадали на колени и вылакали пролившееся молоко с земляного пола сарая. Среди них была и моя мама, через весь свой долгий век пронесшая святую память о членах рода, односельчанах, опаленных войной. Именно от нее я «добрала» те бесценные сведения, которые в детстве по глупости пропустила мимо ушей.
О ком я доподлинно успела составить биографию, так это о Павле Ивановиче и Ольге Тимофеевне Зайцевых — любимых моих дедушке-бабушке с маминой стороны, и о бабушке Марии Ивановне Константиновой — папиной матери. Дедушку на фронт не взяли, потому что специалист был штучный — литейщик. Всю войну из его горячего цеха, стоявшего на краю села, подводами развозили по домам котелки, каски, ложки. Женщины и дети вечерами шкрябали их напильниками, счищая металлические заусенцы. Дедушка неделями не выходил из литейки, и к концу войны его лицо стало рябоватым от окалины, а в руки навсегда въелась чернота. Сколько помню, улыбался он застенчиво, говорил тихо, а к жене обращался с почтением: «Красавица моя, героиня!»
Бабушка Оля и вправду была женщиной той редкой красоты, какую и под фуфайкой не скроешь. Белолицая, стройная, с царственной посадкой головы и кротким взглядом. В 41-м ей доверили бригаду на совхозном огороде, а в 45-м признали лучшим овощеводом Оренбуржья. Вместе со свекровью Евдокией Петровной она всю войну вязала шерстяные носки и перчатки для снайперов (спецзаказ!).
Семья тогда делила кров и стол с семьями эвакуированных ленинградцев. Все в ту пору бедствовали, но, по рассказам сельчан, именно в семью Зайцевых посылали беженцев, сирот. Там своих было восемь ртов детей, но все в округе знали: никого из чужих куском не обделят. Если какой странник заставал семью за трапезой, Евдокия Петровна первой поднималась из-за стола, уступая место и долю еды вошедшему. От нее в семье пошла традиция одаривать всех и вся носками ручной работы. «В поминовение убиенных воинов», как говаривала прабабушка. Сама же она до последнего вздоха истово молилась Богу о своих дорогих павших сродниках.
Я не застала Евдокию Петровну в живых, но, когда бывала в деревне у бабушки Ольги, слышала от нее заповедные рассказы о своей свекрови и видела самодельные тетрадки-помянники образца 1941—1945 годов. Впоследствии они дополнились именами тех самых членов семьи, которые, отвоевав, успели после войны и дома построить, и детей народить, и сады взрастить. На склоне лет Ольга Тимофеевна повелела внукам переписать имена погибших представителей рода и свято чтить их память. Особенно она настаивала на угощении поминальными блинами. Ей вторил дедушка Павел Иваныч, который, помимо предметов воинского назначения, был горазд в изготовлении кухонной утвари. Отлитые им ковшики, чугунки, сковородки были почти в каждом доме односельчан. Один такой раритет сохранился и более 60 лет верой и правдой служит уже третьему поколению женщин нашего рода. В приданное своей дочери Любаше Павел Иванович за бедностью смог дать только самодельный сундук и сковородку с личным клеймом. Мама очень дорожила отцовским подарком, а уж сколько пирожков да блинов на ней испекла — не счесть. Рыбу поджарить, семечки прокалить, картошку приготовить — на все эта сковородка оказалась мастерица. Помню, с плиты не сходила и всегда сверкала, как новая.
Перешагнув 80-летие, обретя десятки внуков и правнуков, Любовь Павловна стала присматриваться, кому бы завещать фамильную «кормилицу»: «Хочу отдать в хорошие руки своей горячей рукой. Чтоб Павла Иваныча поминали». Выбор пал на внучку по имени Евдокия — мать троих детей и прирожденную стряпуху. Та наладилась выпекать в дареной сковородке каравай. Прадед одобрил бы мою Дуняшу...
А прабабушка Мария Ивановна, наверняка, сказала бы на певучем украинском: «Бачь, яка разумовска дивчина!» На похвалу она была скупа, но ценила рукастых людей. Внучек, помнится, к шитью-вязанию приучала. За этими занятиями я, будучи подростком, узнала, что бабушка дважды овдовела: первого мужа у нее отняла Первая мировая, второго, моего деда, — Финская. К началу Великой Отечественной осталась Мария Ивановна с шестеркой детей. Поднимала ребятишек одна. Причем обе дочери и четверо парней Константиновых выросли с таким богатым набором знаний и умений в сельском хозяйстве, ремеслах, какие и в полных семьях редко встретишь.
Солдатским вдовам судьба другого выбора не дала: лошадь, бык, баба, мужик — все в одном лице. На тонкое рукоделье времени не оставалось — едва успевала вязать своим детям носки-варежки из грубой шерсти. Внукам уже доставались узорные рукавички. Как бабушка Маша управлялась со спицами, для меня до сих пор загадка. Руки у нее были искорежены, пальцы не сгибались. Расспрашивать об увечье язык не поворачивался, а смотреть было больно. Как-то она сама поведала горькую тайну.
В войну Мария Ивановна работала на зернотоке, а по ночам караулила совхозную столовую. Продуктов там не хранили — подвозили по норме к обеду. Но голодные беспризорники этого не знали и ночью забрались в помещение. Заслышав бряканье посуды, сторожиха шумнула воришек, одного шкета схватила за воротник. Пацаненок, пытаясь вырваться, искусал ей руки. Плакали вместе, вспоминала бабушка. Мальчонка выл: «Не вызывайте участкового!», а сторожиха, замотав фартуком окровавленные кисти, по сердобольности женской причитала: «Пресвятая Богородица, спаси и сохрани неразумного отрока!»
Налетчиков Мария Ивановна не сдала, а перекушенные сухожилия на ее пальцах срослись вкривь и вкось, пальцы развело в стороны. Но куда деваться — надо было свою ораву кормить, одевать-обувать, учить. Приспособилась. Нам, помнится, наказывала: «Сама не съешь, а голодной детине отдай!» Разве можно было предположить тогда, в 70-е годы прошлого века, что сегодня, по истечении 70 лет после Великой Отечественной войны, Россия снова будет принимать беженцев, собирать теплые вещи для ополченцев и отправлять посылки с провизией голодным детям Луганска и Донецка?
По традиции в нашей семье не делили работу на мужскую-женскую. Отец брал свою тройку девчонок на рыбалку, вместе копали огород, обшивали дом тесом, клали печи, ухаживали за скотом, обрабатывали пух для оренбургских шалей. У дядюшек-тетушек ребятня тоже без дела не слонялась. Да и встречались мы с двоюродными братьями-сестрами в основном по делу: кизяк месить, картошку полоть, сараи мазать.
Вдовья практика выживания бабушки Маши и судьба безотцовщины шестерых ее детей дали нашему роду такую мощную силу, что про Константиновых на селе до сих пор говорят: «Этих лопатой не зашибешь!» Зайцевых вспоминают иначе: «Беднота, полотенца в заплатах, а какие душевные были люди... таких теперь нет!»
В свое время я оказалась вписана в шежере семьи Салиховых, по которой тоже прокатилось кровавое колесо Великой Отечественной войны. Там есть свой священный список защитников Отечества, который возглавляет Усман Шагизадович Салихов — мой свекор. Педагог до 1940-го, политработник — аж до 1948 года. Прошел с боями всю Европу, был ранен. Его супруга, незабвенная Магруй Гильметдиновна, сама чуть не погибла смертью храбрых. Ее поле боя оказалось в окрестностях села Кармаскалы.
Мало того, что сельской учительнице приходилось разрываться между школой и домом, где и свои дети, и ученики хлебали суп из ничего. Нагрянула зима 41-го года. Морозы стояли лютые. В здании школы еще как-то поддерживали тепло, а свой домишко топить было нечем, дровяник пустой — хозяин-то на фронте. В правлении колхоза женщина выпросила лошаденку для поездки по дрова. Дали тягловую силу только вечером, так что в лес она попала потемну.
Нагрузив сани, тронулась в обратный путь и вскоре заметила волчью погоню. Лошадка со страху припустила, но вскоре совсем выбилась из сил, а серые настигали. Рискуя вывалиться из повозки, бесстрашная учительница схватила тяжеленный хлыст и стала отбиваться от хищников. Звери не отставали, норовили вскочить в сани, злобно клацали зубами и хватались за полы ее тулупа. Того и гляди загрызут.
Материнский инстинкт толкнул солдатку на хитрость: она сняла с себя валенки и запустила ими в волков. В клочья разорвав «обманку», стая кинулась догонять ускользающую добычу, но на околице села серых убийц истошным лаем «встретили» местные псы. Остаток зимы за неимением обуви Магруй Гильметдиновна проходила в галошах, лечила помороженные ноги и по охапке тянула до тепла скудные дровяные запасы. Салиховых-младших от голода и холода она спасла, а как пришел с войны муж, еще двоих ему родила. «Я — дитя Победы», — гордо говорит мой муж.
Когда мне доводится слышать досужие комментарии по поводу многодетных семей, дескать, голытьбу плодят, всегда рьяно вступаю в дискуссию и привожу пример своих героических сродниц. И неустанно в душе благодарю их за мужество, за жертвенность, за счастье моих внуков. И яблоко в рот не возьму, если рядом вижу просительный детский взгляд. А коли и не вижу — тоже поделюсь. Не потому, что я добренькая тетя. По духовному обязательству: так завещали женщины нашего рода, вытащившие в лихую годину своих и чужих детей. Грех не помнить их подвиг.
…Так вот, о сковородке. Главное достоинство этой кухонной помощницы — умение печь блины. Это главное мемориальное блюдо у многих народов России. Например, в Масленицу у христиан первый блин (он так и называется — поминальный) полагается отдать на угощенье. В ноябре православные несут в церкви блины по случаю Димитровской родительской субботы, когда особо поминают воинов, «отдавших жизнь за други своя». Накануне 9 мая во всех храмах совершается молебен за соотечественников, павших во вторую мировую. А поминать их по-семейному можно в любой день, когда душа попросит. Разумеется, с тарелкой фирменных домашних «солнышек».
Где моя любимая чугунная сковородка? Не ровня дедушкиной, конечно, но тоже прирученная, стряпню не испортит. По завету старейшин рода в поминальные дни пеку стопку блинов. За каждого воина, кто значится в фамильных списках Зайцевых, Константиновых и Салиховых. Мир их праху!
Фото из семейного архива автора. Галина САЛИХОВА |